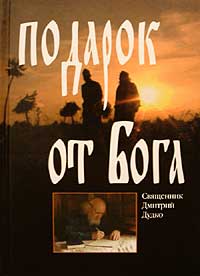|

| СКВОЗЬ СУМРАК НОЧИ | |
Когда уже два года я находился в заключении, умер мой отец. Получая письма от него из дому, я каждое считал последним. Смотрел с любовью на буквы, выведенные ровным старомодным почерком. Мне хотелось целовать письмо, я представлял себе, как он писал старческой рукой. В ровном почерке проглядывали чуть заметные колебания. И вдруг - перерыв: нет письма. И вот получаю письмо, написанное моим средним братом - он возвратился домой: "Успокойся, брат, нашего отца уже нет в живых". Я не плакал, я только бегал от одного знакомого к другому и говорил им, что умер мой отец, что осталась одна мать. Они сочувствовали мне, успокаивали меня, а я смотрел на них и думал, что отца я больше не увижу: отстрадал - ушел в тот мир. Когда я пришел из заключения, моя бедная старушка мать рассказала, как не хотелось отцу умирать, как он хотел увидеть меня, как он рассказывал матери о трудностях заключения и как тайком от нее, что мне было особенно трогательно, собирал для меня по копейке деньги; ко дню своей смерти собрал пятьдесят рублей. Уже совсем ослабевая, подозвал к себе мать и сказал: - Возьми там вон в подлокотнике... это я для Мити собирал... Хотел помочь ему... Накануне смерти его причастили. После причастия он стал веселым, запел церковные песни (он пел в церковном хоре), средний брат сказал ему: - А ты говоришь, что умрешь. - Не умру, но жив буду! У Бога нет мертвых. Ночью он тихо, никого не потревожив, умер. Ожидая его смерти, мать и сестра сидели около него, не спали, он всё время стонал, и только они, казалось, задремали на минутку, сразу же и проснулись, - а он уже мертв. Мать вытащила деньги из подлокотника, пересчитала их: пятьдесят рубликов. - Не донес! - закричала она. Схоронили его без священника, о чем очень жалела мать: была страшная метель. Наш зять, выехав за священником на лошади, возвратился обратно: не мог пробиться через нанесенные на дорогу сугробы. Когда я уже лет шесть находился в лагере, мать прислала мне посылку: пшено, луковица, несколько сухариков черного хлеба и два сухарика белого. И десять рублей денег, на новые - это один рубль. Продукты мне выдали, а деньги нет, положили на мой лицевой счет. Посылки мне присылали и раньше, а денег не присылали. Это впервые я получил деньги. Нужно было писать заявление и по заборному листу получать продукты в лагерном ларьке. Написал я заявление на десять рублей, и вдруг чудо! - мне разрешили получить продуктов на пятьдесят! В чем дело? У меня был знакомый в бухгалтерии, я сказал ему об этом, он понятливо улыбнулся: - Это у нас в бухгалтерии работает одна вольнонаемная девушка, она все деньги со своей зарплаты перекладывает на счет заключенных, и, когда нужно ей получать зарплату, у нее ничего не остается. "Какие герои!" - подумал я и сказал знакомому: - Не нужно мне это, я что-то получаю, а ей откуда брать? Нет, я этого не хочу. Знакомый сказал, что он все это выяснит, и когда выяснил, то оказалось, что деньги эти от мамы и помимо этих есть еще пятьдесят рублей. Это было для меня удивительно! Когда я освободился, спрашивал у мамы: высылала ли она мне деньги? Она ответила, что денег ей неоткуда было брать, а самое главное удивление, что, если бы высылали мне деньги, мне обязательно бы сообщили, что на мой счет поступили деньги, мне же никогда не сообщали. Получив продукты на пятьдесят рублей, я по истечении определенного времени снова написал заявление, на всякий случай. Я жил тогда на гарантийном пайке, перевыполнять нормы не мог по состоянию здоровья, и мне никогда не давали дополнительного пайка. Я знал, что на моем лицевом счету нет ни копейки, а все-таки написал. Мне как будто кто-то внушал эту мысль. И чудо! - мне выдали снова заборный лист на пятьдесят рублей. В чем дело? Я не просил знакомого выяснять, в чем тут дело, я только был удивлен. И так несколько раз я писал заявление, и мне всегда выдавали заборный лист на пятьдесят рублей. И только после смерти Сталина, когда в лагере стало лучше и меня расконвоировали, и я, числясь больным, работал ночным санитаром в Сангородке, на мое заявление ответили: "На вашем лицевом счету нет ни копейки". Я до сих пор не знаю, в чем дело, кто мне высылал деньги? Высылать должны были несколько раз, я рублей на шестьсот набрал, если не больше. Десять рублей матери открыли тайну пятидесяти рублей отца. Это он собрал. Он, умирая, собрал мне, и я их получил! Десятирублевая свеча горела ровным светом, пятидесятирублевая свеча, толстая, старинная, горела жарким светом над моей головой, мне было тепло от родимых свечей, внизу и вверху. А ночь еще не сдавалась, еще не отступали с затаившейся злобой сумерки. Мне припомнился мой первый допрос. - В антисоветских организациях состоял? - был брошен вопрос. Я стоял перед ними, маленький, щуплый, с бледным лицом, наивно глядя на них. Они - несколько человек, был даже один в погонах подполковника, - злобно смотрели на меня. - Нет, - спокойно и растерянно ответил я. - Молод еще был. И начался допрос. Им всё известно, мне остается чистосердечно всё рассказать. Но самое главное, что меня поразило, - это их развязность, циничность, мат. Я посмотрел на них испытующим взглядом и заявил строго и смело: - Вот что. Если еще услышу хоть один мат, я с вами разговаривать не буду. Этого они, наверно, не ожидали. Мне кажется, даже растерялись и удивленно посмотрели на меня. Странно, наивно, интересно. Мальчик протестует, мальчик обличает взрослых. Кажется, кто-то улыбнулся, майор вдруг нашелся и сказал: - Да не разговаривай, материала у нас хватит. - Ну вот и судите по вашему материалу. И совершилось чудо, на следующий день ни одного мата не было. Сидели два следователя, майор и капитан. Сначала вел следствие майор, потом передал капитану. Капитан пытался произносить грубые слова, я протестовал, снова принял следствие майор. На следствие ходил я, как на отдых. Без пяти два брали, без пяти четыре отпускали. И только днем, вежливо, предупредительно. - Спасибо, - когда в первый раз записан был протокол допроса, сказал я. - А за что вы нас благодарите? - удивился майор. - Ну вы же трудитесь. - Пожалуйста, - видимо, отдыхал и он, мой следователь. Потом настолько стал добр ко мне, что сам выводил меня в туалет, стоял, терпеливо ожидая, и только просил меня: - Ну ты так долго не сиди. - Желудок больной, - отвечал я. Потом мы шли на следствие, такой порядок установился навсегда. Из камеры днем в туалет не выводили, и мне поэтому радостно было идти на следствие. В нашей камере сидел старик-драматург, разбитый параличом, его били, бросали на пол, следствие закончилось очень быстро, чтоб он к окончанию следствия не умер. А со мной - непонятное. Вели себя со мной вежливо, предупредительно, тактично. По истечении трех месяцев всем назначали дополнительный паек; мне не назначили, вероятно, как нераскаявшемуся, но всё это вежливо. - Как же ты не виноват? - хотел было однажды разъяриться майор. - Вот ты пишешь про Сталина: "И вы мне кажетесь палач, их погубивший, самый первый". Разве это не клевета? Я спокойно разъяснил майору: - Я на всё смотрю с христианских позиций. Сталин - атеист, а раз атеист, то, на мой взгляд, он убивает и душу, и тело. А тот, кто убивает - палач. - Ты мне эту философию брось. Говорить было не о чем, ребенок укрощал зверя взрослого. Как это могло произойти так естественно, просто, мне самому теперь удивительно. Майор снисходительно улыбнулся и остывающим голосом, без угрозы произнес: - А вообще я был очень наивен, не понимал, в какой страшный и коварный лабиринт я попал. Однажды я написал заявление на имя начальника тюрьмы, чтоб ко мне в тюрьму вызвали священника, я хочу причаститься. Написал я со всей серьезностью, мне очень хотелось причаститься. Вызвали меня в камеру-бокс. - Вы писали заявление? Что вы хотите? - Я хочу причаститься... Начальник тюрьмы, - или, может быть, это был кто-то другой, - не понимал моей просьбы, удивленно переспросил: - Что? Что такое? Я постарался ему объяснить: - Ну вот я, верующий, хочу, чтоб ко мне вызвали священника, любого, какого хотите, он бы меня поисповедовал, а потом я причастился бы... - А... - протянул начальник, махнул равнодушно рукой и, уходя, сказал: - Следователь причастит. Месяца через четыре-пять закончилось мое следствие. - Ну вот и всё, - сказал майор. - Теперь с вами будет разговаривать прокурор. И всё. Свободы вам не видать, лет десять дадут. На следующий день вызвали к прокурору. Прокурор Дорон, огромная туша, закатал рукава, ходит по камере, диктует машинистке: - Пиши. Я признаю себя виновным. Я клеветал на советскую действительность... Я останавливаю его и заявляю: - Я не признаю себя виновным, я не клеветал... - Как - не клеветал? - насупился Дорон, сердито заходил. И тут я разошелся: - Я говорил правду. Поедемте со мной, и я вам покажу, что делается. Я вам покажу своего замученного отца, я вам покажу измученных людей... Дорон остановился, прислушался, не успел удивиться и процедил: - Судить с учетом его поведения... - Так какое мое поведение? - сопротивлялся я. - Что я вас бью? Он показывает книжечку моих стихов: - Ваши?- Мои, но не все, где остальные? - Мы выбрали характерные. Вероятно, остальные сожгли. Я подписал протокол, что являюсь автором книжечки стихов, за это меня судили. В тот же день собрали нас в огромную камеру - всех, кого оформили на суд. Были тут и ученые. Помню одного физика-изобретателя, у него всегда подергивались плечо и левый глаз. Он с уважением смотрел на меня за то, что я молюсь на ночь, только спрашивал: почему я крещусь мелким крестом? Мы с ним задушевно беседовали о Боге. Помню одного старого революционера-профессора: длинный, худой, больная поясница - он не вставал с нар. Тоже с уважением смотрел на меня, но считал мою веру пережитком, недостатком образования. Делился со всеми передачами, которые ему приносили, старался ободрять всех, выделял и мне часть. Сначала сказал про меня, что я - Алеша Карамазов, потом, подумав, поправился: - Нет, тот был чище. Было это в Страстную седмицу, и, кажется, на Первое мая. Нас из огромной мрачной камеры подняли наверх, в более светлую, но меньшего размера; мы все стояли в ожидании. Вот вызвали полусумасшедшего, он всегда говорил, что его отпустят, суд этот так, для отвода глаз. Через минуту он вернулся рассерженный, недовольный. Запустил в них чернильницей, - говорит, а глаза его большие и как будто ворочались, то подымались вверх, то опускались вниз, странность в нем очень замечалась. Вскоре вызвали меня, майор монотонным голосом спросил: - Вы знаете, что по вашему делу совершился суд? Я ответил, что ничего не знаю. Он таким же голосом продолжал: - Я уполномочен объявить вам приговор суда. - Мне встать? - спросил я, раньше мне предложили сесть. - Встаньте. Я встал, перекрестился, приговор гласил: - Десять лет исправительно-трудовых лагерей за сочинение и распространение антисоветских стихов и рассказов... - Я буду жаловаться, - сказал я. - Обжалованию не подлежит. Мне оставалось сказать спасибо, на этот раз меня не спросили, за что я благодарю, и как подобает в таком случае, ответили: - Пожалуйста, - и проводили снисходительно. Я вошел в камеру с улыбкой на лице; я не знаю почему, но мне стало весело. - Как, освободили? - в один голос спросили у меня. - Десять лет, - ответил я. - А почему ты улыбаешься? - А почему я должен плакать? И это было неожиданно и ободрительно для всех, все как-то заговорили о том, что мы переживем эти несчастья, они временны, что будет справедливость, на меня смотрели как на героя, зажегшего первый свет ободрения. Нас, осужденных, привезли в Бутырку. Огромная камера, как вокзал, полна заключенными. Была Великая суббота. Ко мне подсел какой-то крестьянин, и мы с ним разговорились о Христе. Я помню, что мне хотелось говорить и говорить. Я говорил вдохновенно, говорил о страданиях Христовых, об их спасительности, говорил о Его воскресении. Крестьянин внимательно слушал, на следующий день, в Пасху, дал мне крашеное яичко. В этой камере мы были недолго, в нее все прибывали новые и новые люди. Помню одного профессора, высокого роста и грузного, и с ним рядом очень маленького его друга. Они все время занимались зарядкой по утрам и советовали всем следовать их примеру, иначе одряхлеет организм. Заниматься зарядкой все-таки охотников было мало, всем хотелось поспать или о чем-то поговорить. Вдохновляла всех и группа студентов, которые постоянно ругались с надзирателями, говорили, что скоро кончится их царство, есть Высший разум, но что такое этот Высший разум, было непонятно, что-то такое отвлеченное, в Бога они не верили. Один артист, довольно молодой, всё время спал в пальто, даже ночью, натягивал на глаза шляпу, иногда вскакивал и кри- чал: "За что?" - и плакал навзрыд. Со мной все время лежал на нарах пожилой артист, певец, он постоянно просил меня чтоб я ему рассказывал что-либо из житий святых, плакал, когда я ему что-либо рассказывал. Всё говорил, что Москвы ему больше не видать, об этом очень жалел, был коренной москвич. На этап нас взяли неожиданно. Пришло несколько офицеров, закричали на нас - что это мы всё время лежим на нарах, этого, мол, не положено, сделали обыск. Время этапа мне помнится так. В вагонах мы могли только сидеть, сидя и спали. На дорогу нам выдали хлеб и очень соленую рыбу. Помню, что очень хотелось пить, знающие предупреждали об этом, чтоб не ели рыбы, но кто мог удержаться? Продуктов на весь этап не хватило, в лагерь мы прибыли, подобрав все остатки. Дорогой к нам подбрасывали блатных, те пытались щупать наши мешки, вспыхивали драки. После того как происходили драки, от нас их убирали, создавалось впечатление, что к нам их подбрасывают с целью, чтоб ухудшить наше и без того тяжелое положение. Особенно было трудно, когда нас из вагонов вели в пересыльную тюрьму, передавая другому конвою, выстраивали, обязательно спрашивали о наших претензиях. Если кто-либо заявлял о грубости конвоя, того обязательно по прибытии на место избивали, и всем остальным становилось хуже. Гнали, как собак, на отстающих кричали, что пристрелят. - Не у тещи на именинах, здесь некому вам жаловаться, мы для вас и судья и прокурор. Чем дальше мы уезжали, тем становилось яснее, что мы обре ченные, что брошены на произвол, что нет никакого закона, что с нами могут сделать всё, что они захотят. И лучше молчать. Мы все натягивали на голову пальто, закутывались, как клопы уходили в щель и ворочали свои безотрадные думы. Север нас встретил холодом, мокрой метелью. В Москве в это время распускались деревья, всё зеленело, а здесь еще продолжалась зима. И начался лагерь, восемь с половиной лет. Вечно голодный, грязный, усталый до изнеможения. Помню, что я ослабевал до того, что, когда нужно было срубить дерево, я не в состоянии был поднять топор. Рубану раз и отдыхаю, в глазах темнеет. Профессора, который в камере все занимался зарядкой, в первый же день посадили в карцер за то, что он сделал замечание надзирателю, сказал тому как-то, что он безграмотный и не по-человечески обращается с заключенными. Ему мстили особенно за то, что он грамотный, профессор. Решили показать ему, что хотя он и профессор, но они имеют над ним власть и что захотят, то и сделают. Из карцера профессор пришел присмиревший и молчаливый, больше замечаний не делал. С каждым годом мы превращались все больше и больше в бессловесный скот: водянистые глаза, все грязные, ходили только в лагерной одежде, своей не разрешалось. Выходных было мало. Когда бывал выходной, все старались отоспаться, хотя не всегда это удавалось, часто утренняя поверка тянулась до двенадцати часов. Выводили строиться, держали по часу. В зоне вывешивали газеты, но тех, кто читал их, всех брали на заметку. У кого была книга, тот был счастливый человек. В ушах стоял звон рельсы, надзиратель выбивал подъем. Морозно, холодно, спать хочется. Шмон на вахте, шмон по прибытии в зону. Потом повесили номера - казалось бы, что в этих номерах? - а воспринимали их тяжело, казалось, другого имени нам нет, как з/к - скотина, а номер еще что-то худшее. Вызывали не по имени, а по номеру. У меня был номер К-956, он на всю жизнь запомнился. Я сейчас вот уже не помню, которого числа меня судили, смутно помню, когда освободился, а номер помню. Потом удлинился рабочий день, по четырнадцать часов работали. Многие доходили, становились дистрофиками. Дистрофиками считались не исхудавшие, а те, у кого на ягодицах кожа висела, как мешочки, таких брали в больницу. Помню одного литовца, страшного доходягу; он сидел на нарах и молчал, никаких желаний и, казалось, никаких дум. Когда его положили в больницу и выписали ему дополнительный паек, он ничего не ел, всё складывал себе в чемодан, для чего - неизвестно. Когда обнаружили, его выписали из больницы. Не помню, наверно, он умер от истощения. Потом запретили письма, один раз в год разрешалось. Режим всё ужесточался, на обед можно было идти - это вечером после работы! - когда зажжется свет над столовой - бегом! На обед отводилось десять минут, не успел доесть - всё оставляй на столе, выносить не дают, в дверях надзиратель проверяет. В зоне можно было ходить только по боковым дорожкам. По центральным дорожкам ходит начальство. Если кто случайно заходит на центральную - сажают в карцер. Часть первая. От трудной жизни некоторые становились доносчиками, стука чами, чтоб чем-то облегчить свою жизнь; их многих убивали. Одного литовца-доносчика убили, когда ему оставался до освобождения месяц. Помню, как одно время наводило на всех ужас то, что из шахты каждый день прибывали раненые или убитые, шахта была не механизирована. Открывался настоящий фронт. Я очень долго оставался жизнерадостным, оптимистичным, а потом и у меня забродили мрачные мысли, иногда думал, что отсюда не выйду. Единственная отрада была - что есть иная жизнь, есть Бог. Он видит все страдания. Когда я ободрял заключенных, что кончатся мучения, на меня смотрели, как на младенца, не понимающего жизни, и когда я им говорил, что был на фронте, - какой, мол, я младенец, - мне не верили. Иногда я становился суеверным, раз как-то загадал: если пройду по рельсам (по ним шли вагонетки от шахты) и меня никто не сшибет - освобожусь, если сшибет - нет. И только стал идти, как меня тут же сшиб куда-то бежавший заключенный. Чуть запечалился, а потом ободрил себя, прогнал суеверную мысль. Вот в такое время мне пришла посылка от мамы, пришла как ободряющая меня любовь и тепло моих родителей.
Из книги протоиерея Димитрия Дудко "Подарок от Бога",
вышедшей в издательстве Сретенского монастыря 16 / 10 / 2002 Смотри также: Гость сайта: |