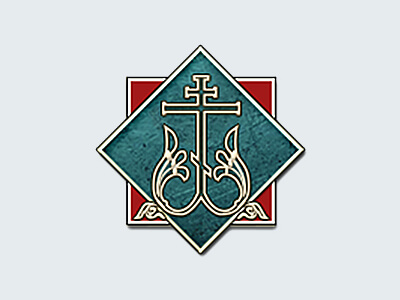Иконоборческий собор 754 г.
В историю император Константин V по прозвищу Копроним вошел как гонитель икон и монахов. В памяти потомков эта его репутация затмила его полководческие успехи. Правда, в первое десятилетие своего правления он не предпринимал решительных шагов для достижении своей религиозной цели – тотального истребления икон и искоренения их почитания, желая действовать наверняка в сложной для осуществления своих замыслов ситуации, когда в среде господствующего в империи этноса, у эллинов, решительно преобладали христиане, сохранившие приверженность к почитанию икон. При этом Константин не бездействовал, а загодя готовился к иконоборческой кампании, которую провел затем с размахом, далеко превзошедшим опыты в этом направлении, предпринятые его отцом Львом. Константин углубился в богословские штудии, результатом которых стали 13 его сочинений с апологией иконоборчества, под общим названием «Вопрошания» – они сохранились во фрагментах, цитируемых в «Опровержении против нечестивого Мамона» святителя Никифора. Развитые в них идеи отразились в постановлении созванного им иконоборческого собора, хотя и не в столь радикальном виде, как в трактатах самого императора.
Удобный момент для возобновления гонений на почитателей икон, которых Копроним и его единомышленники и клевреты клеймили как идолослужителей, представился ему, когда в конце 753 или начале 754 г. умер Патриарх Константинопольский Анастасий, о действительном отношении которого к иконам ничего сказать невозможно, ввиду его, если так можно выразиться, удивительной переменчивости. Он был некогда приближенным Патриарха Германа, пострадавшего при Льве Исавре за исповедническую приверженность почитанию икон. После низложения святого Германа Анастасий, поддержавший (трудно сказать, по каким побуждениям) императора-иконоборца, стал Патриархом. В «Летописи» Феофана отражены неблагообразные подробности его предсмертной болезни, которые автор увязывает с его отступничеством от правой веры: «Анастасий, не свято правивший престолом Константинопольским, умер душой и телом в ужаснейшей болезни, называемой воспалением кишок: он ртом изблевывал свой помет – казнь достойная за дерзость против Бога своего и учителя»[1] – святого Германа, которого он предал.
 Иконоборческий собор (миниатюра из Хлудовской псалтыри) После смерти Анастасия Константин не позаботился о немедленном замещении Патриаршей кафедры, созвав собор, которому и предстояло избрать Патриарха. Император назвал его «Седьмым Вселенским», и по числу участников он был не менее представительным, чем некоторые из Вселенских Соборов, вот только все 338 епископов, съехавшихся во дворец Иериа, расположенный вблизи столицы, на азиатском берегу Босфора, между Халкидоном и Хрисополем, представляли одну Поместную Церковь – Константинопольский Патриархат. В этом соборе не участвовали ни западные епископы, ни епископы Восточных Патриархатов, оказавшихся под властью мусульман. На соборе в Иерие не было ни одного Патриарха: все они, равно как и Папа, были приверженцами иконопочитания. Председательствовать поручено было архиепископу Эфесскому Феодосию, сыну низложенного императора Апсимара-Тиверия. Среди видных участников иконоборческого собора были такие «знаменитости иконоборческого лагеря», как «Василий Трикакав, митрополит Антиохии писидийской, Сисинтий Пастилла, митрополит Перги в Памфилии»[2].
Иконоборческий собор (миниатюра из Хлудовской псалтыри) После смерти Анастасия Константин не позаботился о немедленном замещении Патриаршей кафедры, созвав собор, которому и предстояло избрать Патриарха. Император назвал его «Седьмым Вселенским», и по числу участников он был не менее представительным, чем некоторые из Вселенских Соборов, вот только все 338 епископов, съехавшихся во дворец Иериа, расположенный вблизи столицы, на азиатском берегу Босфора, между Халкидоном и Хрисополем, представляли одну Поместную Церковь – Константинопольский Патриархат. В этом соборе не участвовали ни западные епископы, ни епископы Восточных Патриархатов, оказавшихся под властью мусульман. На соборе в Иерие не было ни одного Патриарха: все они, равно как и Папа, были приверженцами иконопочитания. Председательствовать поручено было архиепископу Эфесскому Феодосию, сыну низложенного императора Апсимара-Тиверия. Среди видных участников иконоборческого собора были такие «знаменитости иконоборческого лагеря», как «Василий Трикакав, митрополит Антиохии писидийской, Сисинтий Пастилла, митрополит Перги в Памфилии»[2].
Заседания открылись 10 февраля 754 г. и продолжались в Иерие до августа, когда они были перенесены в столицу во Влахернский храм, выбранный не случайно – с его стен были сбиты фрески со священными изображениями, а вместо них написаны декорации, в то время как на мозаики Святой Софии вандалы еще не простерли руку. Во Влахернском храме, по указанию императора, Патриархом Константинополя был избран и 8 августа интронизован епископ Силлейский Константин. 27 августа состоялось завершающее заседание, на котором провозглашен был орос.
В отличие от соборных деяний, которые не сохранились ввиду конечного поражения иконоборцев и уничтожения принадлежавшей им документации, текст ороса известен, потому что он был зачитан, с соответствующими полемическим комментариями, на VII Вселенском Соборе. В надписании ороса упоминаются имена «боговенчанных и православных... императоров Константина и Льва», его сына и наследника, «по благочестивейшему повелению» которых и был созван «святый и вселенский собор» в «храме... Богородицы и Приснодевы Марии», так называемом Влахернском»[3].
В самом начале ороса излагается учение о творении Богом мира и человека, о восстании Люцифера на своего Творца, о грехопадении первозданного человека по его наущению, о спасении рода человеческого воплотившимся Словом Божиим, причем в оросе акцентировано внимание на том, что Господь «избавил нас от тлетворного учения демонского, или заблуждения и служения идольского, и даровал нам поклонение духом и истиною»[4], чтобы затем перейти к обвинению иконопочитателей в идолослужении:
«Вышеупомянутый творец зла... под личиною христианства... ввел идолопоклонство, убедив своими лжемудрованиями склонявшихся к христианству не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать Богом тварь под именем Христа»[5].
Учение о почитании икон представлено в оросе в превратном и карикатурном виде. Сервилизм участников еретического собора перехлестывает через край: Сам Господь для противодействия идолопоклонству, говорится в оросе,
«послал всюду Своих премудрых учеников и апостолов, облеченных силою Всесвятого Духа»
и ныне
«воздвиг служителей Своих, подобных апостолам, верных наших императоров, умудренных силою того же Духа, для нашего усовершения и наставления, для истребления демонских оплотов... и для обличения диавольского коварства и заблуждения»[6].
С этой целью
«они же, движимые ревностью по Боге и будучи не в состоянии видеть Церковь верующих разграбляемою коварством диавола... созвали весь священный сонм боголюбезных епископов, чтобы, собравшись вместе, исследовать Писание о соблазнительном обычае делать изображения, отвлекающие ум человеческий от высокого и угодного Богу служения к земному и вещественному почитанию твари»[7].
За этим следует изложение догматов шести предшествовавших Вселенских Соборов, включенное в орос для того, чтобы противопоставить им учение о почитании икон:
«Мы с большим тщанием... исследовали и познали эти догматы и при этом нашли, что против самого необходимого из них для нашего спасения, то есть домостроительства Христова, богохульствует не имеющее в них основания искусство живописи и что им подрываются эти шесть святых и вселенских богособранных соборов»[8]
– демагогическая декларация, пафос которой возрастает чрез уподобление иконопочитания ересям Ария, Нестория, Диоскора, Евтихия и Севера. Нелепость этого обвинения усугубляется поставлением в один ряд противоположных заблуждений Нестория и монофизитов, выставленных одинаково в виде предшественников иконопочитания. Впрочем, в оросе содержится разъяснение утверждения о присутствии противоположных по своей направленности ересей в учении иконодулов:
«Вот сделал он (живописец) икону и назвал ее Христом; а имя ‟Христос” есть имя и Бога и человека. Следовательно, и икона есть икона и Бога и человека; а следовательно, он описал, как представилось его слабоумию, неописуемое Божество описанием созданной плоти, или слил неслитное соединение и впал в нечестивое заблуждение слияния. Он допустил, таким образом, относительно Божества два богохульства: описуемость и слияние»[9].
Но на самом деле, в соответствии с православным учением, икона Спасителя относится не к Его Божественой или человеческой природе, но к Его Лицу, Ипостаси.
В. В. Болотов выявил несостоятельность иконоборческой аргументации, в основании которой лежал тезис о неописуемости Бога, из чего ими выводилось заключение о недопустимости изображать Спасителя только по Его человеческой природе, потому что при таком подходе его человечество по-несториански отделялось от Его Божества, но «оставаясь последовательными, – писал он, – иконоборцы должны бы были кончить таким абсурдом, как отрицание всякого богословствования. Таинство Воплощения не только ‟неописуемо”, но и ‟неизглаголанно”, адекватно невыразимо не только на иконе, но и в человеческом слове. Если на основании ‟неописуемости” отвергали иконы, то на основании ‟неизреченности” можно было кончить гонением на всякое богословие»[10]. Безграничный и нарочитый апофатизм иконоборцев, таким образом, оборачивался очевидным абсурдом.
Безграничный и нарочитый апофатизм иконоборцев оборачивался очевидным абсурдом
Истинной иконой Христа иконоборческий орос называет Его Тело и Кровь, преподаваемые верным в таинстве Причащения. Таким образом, резюмируют авторы ороса и вместе с ними участники иконоборческого собора,
«Нечестивое учреждение лжеименных икон не имеет для себя основания ни в Христовом, ни в апостольском, ни в отеческом предании; нет также и священной молитвы, освящающей их, чтобы сделать их из обыкновенных предметов святыми»[11].
На предполагаемое суждение, что из сказанного относительно недопустимости писать икону Христа еще не следует, что надо порицать писание икон Богородицы, пророков, апостолов и мучеников, «так как они суть простые люди, а не состоят из двух естеств, т. е. божества и человечества»[12], орос отвечает с предельным лаконизмом: «по отрицании первой (иконы Христа) нет надобности и в последних»[13], при том, что у иконоборцев, в отличие от мусульман и иудеев, не имелось возражений против изготовления портретов императора, епископов и вельмож.
Прибегая к демагогическим приемам, участники собора отвергают писание икон и как практику, заимствованную у язычников:
«Как даже осмеливаются посредством низкого еллинского искусства изображать преславную Матерь Божию, в которой вместилась полнота Божества... Как не стыдятся посредством языческого искусства изображать имеющих царствовать со Христом... Недостойно христианам, получившим надежду воскресения, пользоваться обычаями народов, преданных идолослужению... Мы не заимствуем доказательство нашей веры у чуждых»[14].
В подкрепление иконоборческого учения участники еретического собора ссылаются на Священное Писание, воспрещающее творить кумиров и служить твари, и на отцов, при этом цитируемые ими патристические места имеют лишь косвенное отношение к рассматриваемой теме и интерпретируются превратно. Так, ссылаясь на авторитет святителя Григория Богослова, орос приводит такие его стихи: «Несправедливо заключать веру в красках, а не в сердце; потому что заключенное в красках легко стирается»[15]. Нужно много фантазии, чтобы в этой сентенции обнаружить отрицание икон. Примерно так же обстоит дело и с другими святоотеческими цитатами – из Василия Великого, Амфилохия Иконийского, Иоанна Златоуста, – которые бьют мимо цели. Лишь приводимое в оросе высказывание Епифания Кипрского и в самом деле неблагоприятно по отношению к учению о почитании икон:
«Помните, дети возлюбленные, и о том, что не следует вносить икон в церкви, а также и в усыпальницы святых, но всегда памятуйте о Боге и держите Его в сердцах своих. Христианину не прилично возноситься к Богу посредством глаз и блужданий ума»[16].
В соответствии с традицией, орос заканчивается анафематизмами, которые относились как к приверженцам ранее осужденных ересей Ария, Нестория, Евтихия, так и к почитателям икон:
«Если же кто-либо с этого времени дерзнет устроить икону, или поклоняться ей, или поставить ее в церкви, или в собственном доме, или же скрывать ее, такой, если это будет епископ, или пресвитер, или диакон, то да будет низложен, а если монах или мирянин, то да будет предан анафеме»[17].
Мало этого! Участники собора призывают подвергать разномыслящих с ними уголовным карам:
«И да будет он виновен и пред царскими законами; так как он противник Божиих распоряжений и враг отеческих догматов»[18].
В то же время собор постановил,
«чтобы ни один человек, будучи настоятелем церкви Божией или хозяином досточтимого дома, под предлогом ослабления такого заблуждения относительно икон, не налагал рук своих на посвященные Богу святые сосуды с целью дать им другое – не идольское – назначение... а также и на одежды и на другие покровы, или на что-либо другое, посвященное на священное служение Богу, под предлогом дать всему этому полезное назначение»[19].
Акты подобного вандализма недопустимы без
«ведения святейшего и блаженнейшего Вселенского Патриарха и без повеления благочестивых и христолюбивых императоров наших, чтобы под предлогом подобного рода диавол не унизил церквей Божиих»[20].
Собор запретил также в пылу иконоборческой ревности захватывать храмы Божии ради профанного их употребления, «как это сделано было некоторыми бесчинно поступающими»[21]. Известную сдержанность участников собора В. В. Болотов находит следствием того, «что в среде самих иконоборцев шла борьба двух направлений: умеренного, выразителями которого были отцы собора, и крайнего, на стороне которого, по-видимому, были светские вожди иконоборчества»[22], иными словами, император Константин Копроним и высокопоставленные чиновники.
По традиции, собор завершился аккламациями в честь императоров:
«Многия лета императорам... Царь небесный! Сохрани (царей) земных. Вами умиротворена Церковь вселенская; вы – светильники Православия... Вы уничтожили идолослужение... Вы разрушили замыслы нечестиво мыслящих: Германа, Георгия и Мансура»[23].
И затем последовали персональные анафемы выдающимся защитникам икон: святителям Герману Константинопольскому, Георгию Кипрскому и преподобному Иоанну Дамаскину, названному Мансуром:
«Двоедушному Герману, почитателю дерева, анафема. Единомышленнику его Георгию, исказителю отеческого учения, анафема. Мансуру, мыслящему по-сарацински, анафема. Иконопочитателю и сочинителю лжи, Мансуру, анафема. Мансуру, клеветавшему на Христа и замышляющему зло против империи, анафема. Мансуру, учителю нечестия, превратно толковавшему Божественное Писание, анафема. Троица низложила этих трех»[24].
Преподобный Иоанн Дамаскин – апологет иконопочитания
 Преподобный Иоанн Дамаскин Особая оголтелость участников еретического собора в анамефатствоании Мансура – преподобного Иоанна Дамаскина – вызвана тем, что защитники икон в своем противостоянии иконокластам опирались на богословскую аргументацию, разработанную этим святым в трех его «Защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения». Преподобный Иоанн, который до пострига носил арабское имя Мансур ибн Сарджун (Мансур сын Сергия), родился во второй половине VII века в Дамаске, в христианской семье, вероятно, не арабского, но сирийского происхождения, при этом эллинизированной: он был сыном высокопоставленного чиновника Сарджуна ибн Мансура, состоявшего на службе халифа в должности логофета – при Омейадах гражданская администрация в городах халифата оставалась, как и прежде, в руках христиан, которые все еще составляли в них значительное большинство населения. Мусульманами в Сирии в основном были тогда арабы, потомки пришельцев из Аравийской пустыни, из них комплектовались вооруженные силы халифата. Омейады, не отличавшиеся религиозным рвением, по финансовым соображениям не заинтересованы были в массовом обращении христиан, потому что принимавшие ислам освобождались от уплаты налогов.
Преподобный Иоанн Дамаскин Особая оголтелость участников еретического собора в анамефатствоании Мансура – преподобного Иоанна Дамаскина – вызвана тем, что защитники икон в своем противостоянии иконокластам опирались на богословскую аргументацию, разработанную этим святым в трех его «Защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения». Преподобный Иоанн, который до пострига носил арабское имя Мансур ибн Сарджун (Мансур сын Сергия), родился во второй половине VII века в Дамаске, в христианской семье, вероятно, не арабского, но сирийского происхождения, при этом эллинизированной: он был сыном высокопоставленного чиновника Сарджуна ибн Мансура, состоявшего на службе халифа в должности логофета – при Омейадах гражданская администрация в городах халифата оставалась, как и прежде, в руках христиан, которые все еще составляли в них значительное большинство населения. Мусульманами в Сирии в основном были тогда арабы, потомки пришельцев из Аравийской пустыни, из них комплектовались вооруженные силы халифата. Омейады, не отличавшиеся религиозным рвением, по финансовым соображениям не заинтересованы были в массовом обращении христиан, потому что принимавшие ислам освобождались от уплаты налогов.
Впрочем, веротерпимость халифата к христианам имела свои границы. Феофан Исповедник рассказывает о том, что халиф в самом начале своего правления «приказал отрезать язык святейшему митрополиту Дамасскому за то, что он торжественно обличал нечестие аравитян и манихеев, и сослал его на заточение в счастливую Армению»[25] – в далекий Йемен; и в том же году «был изрублен мечом и оказался мучеником» Петр, исполнявший в Маюме «должность писца» «при взимании податей»[26] – за громогласно, при стечении народа сказанные им слова: «Анафема Мухаммед и бредни его и все верующие в него»[27]. Отец преподобного Иоанна Дамаскина упомянут в «Летописи» Феофана Исповедника под 691-м г. (по летосчислению Феофана – 682-м): когда халиф Абдул-Малик приказал выломать колонны Гефсиманского храма в Иерусалиме для строительства мечети в Мекке, то «просил его Сергий некто, муж христианнейший, генерал-счетчик Мансура... и товарищ его патриций... из палестинских христиан, по прозванию Клезос, не делать этого»[28], и эта просьба была исполнена.
Преподобный Иоанн, как и его сводный брат, получил основательное домашнее образование. Их отец взял им в учители Косму, монаха из Калабрии, который прибыл в Дамаск с партией невольников. Увидев, как горько он плачет, Сарджун, или Сергий, «спросил, стоит ли так плакать, прощаясь с жизнью, тому, кто все равно умер для мира. На что инок ответил, что плачет не из-за страха смерти, а из-за того, что не успел никому передать свои знания»[29], и затем подробно перечислил науки, в которых он был сведущ. Сановник выкупил его и взял в дом свой учителем детей. Завершив обучение их, Косма поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного, где и преставился. Иоанн Дамаскин после смерти своего отца поступил на государственную службу, став советником халифа.
 Иоанн Дамаскин и Косьма Майумский
Иоанн Дамаскин и Косьма Майумский
Будучи ревностным христианином и хорошо образованным богословом – некоторые из его творений были написаны им, когда он находился на службе халифа, – он не остался равнодушным, когда в империи ромеев были развязаны гонения на христиан, и составил первое из трех слов в защиту икон. Его написание можно датировать промежутком от начала иконоборческой кампании в 726-м г. до издания злополучного эдикта Льва Исавра 730 г. Эта его апология икон скоро дошла до имперской столицы, вызвав ярость императора Льва. И тогда он, согласно житию преподобного Иоанна, прибег к интриге. По его приказу писцы императорской канцелярии, подделав почерк защитника икон, сочинили фальшивку в виде его письма императору, в котором он призывает его напасть на Дамаск, и это в то время, когда между империей и халифатом был мир. Этот подлог Лев выслал халифу, снабдив его собственным посланием с заверением в намерении неукоснительно соблюдать условия мирного договора. В житии говорится затем, что, подвергнутый допросу, святой назвал предъявленную ему улику фальшивкой, но халиф ему не поверил и велел отрубить ему кисть руки, которая была вывешена на базаре для всеобщего обозрения. А затем, согласно житию, по молитве преподобного пред иконой Божией Матери свершилось чудо, и отсеченная кисть возвратилась на прежнее место. Узнав о случившемся, халиф понял, что он поверил клевете, и просил верного сановника вернуться к исполнению своих обязанностей, которые с некоторых пор заключались, вероятно, в сборе налогов, на что указывают агиографические сопоставления Иоанна Дамаскина с апостолом Матфеем, который служил мытарем, пока его не позвал Господь, но святой исповедник испросил у халифа позволение уйти в монастырь.
Согласно церковному преданию, он вместе со своим сводным братом Космой был принят в лавру Саввы Освященного и там пострижен с именем Иоанна, хотя современные агиографы предполагают, что он подвизался в другом палестинском монастыре, в окрестностях Иерусалима. В житии святого говорится, что, ввиду его широкой известности, ни один из старцев лавры не хотел брать новоначального в свои послушники, наконец один из старцев взял его в ученики, но при условии, что он прекратит всякую деятельность, которой занимался в миру, включая и написание богословских сочинений. Преподобный Иоанн принял это условие.
Некоторое время Иоанн Дамаскин пребывал в Иерусалиме, куда его вызвал из обители патриарх Иоанн V, хиротонисавший его в пресвитера. Одна из его гомилий, «О засушенной смоковнице», подписана именем, к которому присовокуплено «пресвитер Святого Воскресения Христа нашего Бога», из чего можно заключить, что в ту пору он служил в иерусалимском храме Воскресения Христова. Он понадобился там как красноречивый проповедник. Феофан Исповедник именует его «Иоанном Златоструйным, пресвитером и монахом, сыном Мансура, превосходнейшим учителем, отличавшимся и жизнью и словом»[30] – и, в ином месте, «преподобным отцом нашим Иоанном, достойно названным Златоточивым, по цветущей в нем благодати духовной и в слове, и в жизни... которого нечестивый Константин ежегодно предавал проклятию»[31]. После кончины Патриарха Иерусалимского Иоанна, последовавшей в 735-м г., преподобный Иоанн возвратился в свою лавру.
Однажды в лавре скончался монах, брат которого, тоже инок, тяжело скорбел об утрате близкого человека. Сострадая ему, Иоанн Дамаскин составил надгробное песнопение, сочинив и слова последования, и мелодию. В наш «Требник» оно вошло с надписанием «самогласны Иоанна монаха»:
«Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся сонии прелестнейша: единем мгновением, и вся сия смерть приемлет, но во свете, Христе, лица Твоего, и в наслаждении Твоея красоты, егоже избрал еси, упокой, яко человеколюбец... Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва; вся персть, вся пепел, вся сень... Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида».
Когда наставник преподобного Иоанна услышал, как его ученик поет в келлии, он прогнал его от себя, но по просьбе братии он согласился принять его к себе снова – при условии, что тот, в доказательство своего раскаяния и смирения, очистит все нужники лавры, – и преподобный выполнил эту епитимью. Старец его простил, а затем ему было видение Божией Матери, повелевшей не запрещать ее почитателю писать церковные сочинения, и преподобный Иоанн уже до конца своей земной жизни составлял песнопения, которые затем вошли в богослужебный обиход.
Точная дата его кончины, как и рождения, неизвестна, но в патрологии преобладает версия, что он преставился до иконоборческого собора 754 г., который анафематствовал его под именем Мансура, хотя буквальный текст анафемы скорее наводит на предположение, что в 754-м г. он был еще жив: анафема возглашается «Мансуру, клеветавшему на Христа и замышляющему (а не замышлявшему – В. Ц.) зло против империи»[32]. В то же время нет никаких имеющих хронологическую привязку сведений о нем, относящихся ко второй половине VIII века. До VII Вселенского Собора (787 г.) он не дожил – это с очевидностью вытекает из соборных деяний.
Корпус творений преподобного Ионна Дамаскина обширен. Он включает сочинения догматического, экзегетического, аскетического и философского содержания, полемические трактаты, гомилии, или проповеди, а также богослужебные последования и отдельные молитвословия – при всей сложности и остающейся дискуссионности авторства этих литургических текстов, традиция усваивает ему Октоих, Пасхальный канон, заупокойные стихиры, молитвы из «Последования ко Святому Причащению».
Его главное и самое читаемое творение – «Точное изложение православной веры», представляющее собой первый и самый удачный, остающийся непревзойденным опыт систематического изложения православного вероучения, центральное место в котором уделено триадологии, христологии и сотериологии, но также и учению о творении мира, мариологии и эсхатологии. Авторы позднейших богословских компендиумов и догматических трактатов по частным темам на Востоке и Западе опирались на наследие Иоанна Дамаскина. В этом отношении «Точное изложение православной веры» представляет собой своего рода резюме святоотеческого богословия. Это творение оказало огромное влияние на развитие западного, латинского богословия.
«Точное изложение православной веры» представляет собой своего рода резюме святоотеческого богословия
«В западной патрологии учение и богословский метод Иоанна Дамаскина традиционно рассматриваются с точки зрения влияния, оказанного им на средневековую схоластику. В этой перспективе он предстает, прежде всего, как автор систематического изложения греческой патристической традиции, представленного в протосхоластической форме»[33], при этом без гиперрационализма средневековой схоластики, проистекающего из некритичного увлечения односторонне понятым и известным лишь фрагментарно Аристотелем, побуждавшего католических богословов переступать запретную черту в стремлении интерпретировать догмат в рамках формальной логики. Преподобный Иоанн Дамаскин, воспитанный на апофатической традиции греческой патристики, благополучно избежал подобной западни. Как и большая часть восточных отцов, в философии он был последователем скорее Аристотеля, чем Платона, но при этом сохранил трезвое чувство меры в использовании приемов формальной диалектики, разработанной Аристотелем, влияние которого, вплоть до прямых заимствований, более всего обнаруживается в его «Диалектике».
«Точное изложение православной веры» вместе с «Диалектикой» и трактатом «О ересях» составляют трилогию. При этом «Диалектика» – это не авторское название, оно дано в позднейшей традиции сочинению, которое сам Иоанн Дамаскин называл «Источником знания». Позже это наименование перенесено было на всю трилогию, а его первую философскую часть назвали «Диалектикой», или, в некоторых манускриптах, – «Философскими главами». В «Диалектике» святой отец, следуя за Аристотелем, разделяет все знания, и, соответственно, науки, совокупность которых он называет философией, на теоретические, практические и логические, относя к теоретическим наукам богословие, физику и математику, к практическим – этику, экономику и политику, а логическую науку рассматривает не как самостоятельную дисциплину, но как инструмент философии. «Источник знания» написан был преподобным Иоанном на закате его земной жизни, в 740-е или уже в начале 750-х гг. Эта датировка основана на том, что сохранилось послание Иоанна своему сводному брату, святителю Косме Маюмскому, а Косма занял Маюмскую кафедру после священномученика Петра, замученного в 743-м или 744-м г.
Из полемических творений Иоанна Дамаскина самыми актуальными и оказавшими максимальное влияние на развитие богословской мысли эпохи иконоборчества стали его упомянутые выше «Защитительные слова против порицающих святые иконы или изображения». Первое из этих «слов» написано было в промежуток между 726-м г. и 730-м г., второе составлено по свежим следам иконоборческого эдикта Льва, после кровопролития у Халкопратийских ворот Константинополя, а третье слово «против порицающих святые иконы» было написано, вероятно, уже в правление Константина V. Эти три слова, ввиду значительной текстуальной близости между собой, представляют три редакции одного трактата. При этом второе слово служит своего рода сокращенной версией первого, а третье, напротив, – его пространной редакцией. Еще одна особенность второго слова, написанного после избиения столичных мучениц и мучеников, попытавшихся защитить скульптурный образ Спасителя, помещенный на Халкопратийских воротах, отличается резкостью тона, когда преподобный Иоанн пишет о недопустимости вмешательства царей в религиозные дела, ссылаясь на ряд библейских примеров, призванных отрезвить правившего тогда императора-иконоборца и удержать его от дальнейших посягательств на свободу Церкви:
«Не царей дело – давать законы Церкви... Царям свойствен хороший образ государственной деятельности; церковное же устройство – дело пастырей и учителей. Это, братие, разбойничье нападение. Саул разорвал одежду Самуила и что потерпел? Бог разодрал его царство и дал его весьма кроткому Давиду. Иезавель преследовала Илию, и свиньи и псы лизали ее кровь, и блудницы мылись с ней. Ирод умертвил Иоанна и, снедаемый червями, умер»[34].
Все три слова снабжены флорилегиями – выдержками из творений отцов, которые отчасти совпадают, а отчасти расходятся. Самый обширный флорилегий прилагается к третьему «защитительному слову». Иоанн Дамаскин приводит места из «Ареопагитик», из творений святителей Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, из сочинений блаженного Феодорита, Леонтия – епископа Неаполя Критского, из житий Иоанна Златоуста и Марии Египетской, из «Луга Духовного», из хроники Иоанна Малалы. Эти отрывки содержат прямое или косвенное обоснование почитания икон либо свидетельствуют о факте существования икон и об их почитании в самые ранние времена церковной истории, в них включены рассказы о чудесах, совершавшихся чрез молитвенное обращение к Спасителю или святым пред их образами.
Преподобный Иоанн, полемизируя с иконоборцами, опровергает их главный тезис: о том, что почитание икон – это род идолослужения, что Господь чрез пророка Моисея воспретил «творить кумиров и всякое подобие» (Исх., 20, 4).
«Иудеям, – пишет он, – это было предписано по причине склонности их к идолослужению. Мы же... которым дано, избежав суеверного блуждания, познав истину, находиться в общении с Богом и служить одному только Богу... и по миновании детского возраста, достигнув в мужа совершенна... получили от Бога способность различать, и знаем – что может быть изображаемо и что не может быть выражено посредством изображения»[35]. Иоанн Дамаскин не без иронии пишет о заявленной иконоборцами приверженности букве Закона: «Если ради закона ты запрещаешь изображения, то пора тебе и субботствовать, и обрезываться»[36].
К тому же и в Ветхом Завете запрет изображений имел границы: Господь повелел, чтобы «приготовляемые человеческими руками изваяния херувимов осеняли очистилище»[37]. Места из Священного Писания, используемые иконоборцами в полемике против почитания икон, направлены на самом деле против языческого многобожия и идолопоклонства, эти изречения
«не учат тому, что должно гнушаться поклонения имеющимся у нас изображениям, но – тем, которые боготворят еллины. Не должно поэтому из-за нелепого обычая еллинов уничтожать и наш, который – благочестив. Чародеи и волшебники произносят заклинания, и Церковь заклинает оглашаемых. Но те призывают к себе демонов, эта же – Бога против демонов. Еллины посвящают демонам изображения и называют их богами, мы же – истинному Богу – воплотившемуся – и рабам Божиим, и друзьям, прогоняющим полки демонов»[38].
Иконоборцы, отвергая иконы, утверждают, что истинное почитание Бога уместно лишь в духе и должно быть чуждо какого бы то ни было материального, вещественного посредства. Возражая против этого довода, святой отец пишет:
«Мы не в состоянии подниматься до созерцания духовных предметов без (какого-либо) посредства, и для того, чтобы подняться вверх, имеем нужду в том, что родственно (нам) и сродно»[39].
И эту свою мысль он подкрепляет авторитетной патристической ссылкой, цитируя святителя Григория Богослова, который «говорит, что ум, сильно стараясь выйти за пределы телесного, всюду оказывается бессильным. Но и невидимая Божия от создания мира творенми помышляема видима суть (ср. Рим. 1, 20). Ибо в тварях, – продолжает Иоанн Дамаскин, – мы замечаем образы, прикровенно показывающие нам Божественные откровения, так что когда говорим о Святой Троице, высшей всякого начала, то изображаем себе посредством солнца и света, и луча или бьющего ключом источника и вытекающей влаги, и течения или – ума и слова, и находящегося в нас дыхания, или – ствола розы и цветка, и благовония»[40]. Гнушение веществом сближает иконоборцев с манихеями:
«Ты хулишь естество и называешь презренным? Это также (делают) и манихеи; но Божественное Писание провозглашает его прекрасным. Ибо оно говорит: ‟и виде Бог вся, елика сотвори: и се добро зело” (Быт. 1, 31). Итак, я признаю, что вещество – творение Божие и что оно – прекрасно; ты же, если называешь его дурным, или признаешь, что оно – не от Бога, или делаешь Бога виновником зла»[41].
преподобный Иоанн Дамаскин выявляет связь почитания икон с догматом о Боговоплощении
Иконоборцы были бы правы в своих обвинениях иконодулов, если бы они пытались изобразить невидимого Бога, «потому что невозможно, чтобы было изображено бестелесное и невидимое, и не описуемое, и не имеющее формы»[42], но «после того, как Бог, по неизреченной Своей благости, воплотившись... воспринял природу и величину, и образ, и цвет плоти, мы, делая Его изображение, не погрешаем»[43]. Так преподобный Иоанн Дамаскин выявляет связь почитания икон с догматом о Боговоплощении. Возражая тем, кто, допуская изображение Спасителя и Богородицы, отвергают иконы святых, Иоанн Дамаскин с пафосом восклицает: «О, нелепость! Ты ясно признал себя врагом святых. Ибо, если ты делаешь изображение Христа, а – святых никоим образом, то ясно, что ты запрещаешь не изображение, но чествование святых... Ты предпринял войну не против икон, но против святых»[44], но «святые и при жизни были исполнены Святого Духа, также и по смерти их благодать Святого Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их чертах, и в святых изображениях, не по причине их сущности, а вследствие благодати и (Божественного) действия»[45]. Поклоняясь иконе, христианин воздает честь не краскам, доскам или камням, но тому, кто изображен красками, или мозаикой, или иным образом, – эту мысль Иоанн подкрепляет ссылкой на Василия Великого, который писал, что «воздаваемая изображению честь переходит на первообраз»[46]. Преподобный Иоанн в своем учении об изображении и образе возводит ум читателя к первоначальному истоку всех образов, напоминая о том, что «первым – естественным и во всем сходным – образом невидимого Бога» является «Сын Отца, являющий в Себе Отца»[47].
Иоанн Дамаскин проводит грань между разными видами почитания, которую игнорировали иконокласты: почитание, воздаваемое Божией Матери, бесплотным ангелам, святым, а также иконам и мощам святых (проскинезис) существенно отличается от служения (латриа), которое воздается Богу: Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ссылаясь в своей апологии икон и иконопочитания на отцов, Иоанн Дамаскин не обходит и излюбленную ссылку иконоборцев на святого Епифания Кипрского, которого они представляют своим предшественником. Полемизируя с оппонентами, преподобный высказывает следующие аргументы: возможно, что книга, в которой тот отвергает священные изображения, «неверно надписана (его именем) и подложна»[48], может быть, святой Епифаний, воспрещая писать иконы и фрески, отталкивался от некоего неизвестного злоупотребления, которым сопровождалось почитание изображений, тем более что его собственная церковь «до нашего времени кругом украшена изображениями»[49]. Существовали ли они уже при жизни святителя – остается неизвестным, и наконец, и это самый весомый и неопровержимый аргумент, основанный на идее consensum patrum: «Что редко случается, не бывает законом для Церкви, и одна ласточка не делает весны... И одно мнение не в состоянии опровергнуть предание всей Церкви, простирающейся от (одних) концов земли до (других) ее концов»[50]. Три «защитительных слова» преподобного Иоанна Дамаскина переписывались и читались и в Константинополе и в других городах империи, вооружив защитников икон неотразимыми богословскими аргументами.
Кровавые гонения на почитателей икон и монахов
Константин Копроним развязал наконец кампанию кровавых гонений на иконодулов
Опираясь на орос еретического собора, воспрещавший писать иконы и поклоняться им, Константин Копроним развязал наконец кампанию кровавых гонений на иконодулов. Ей предшествовала затребованная им от подданных присяга над Телом и Кровию Спасителя, перед Крестом и Евангелием – впредь не поклоняться иконам. «Представители иерархии приняли определение копронимовского собора, по-видимому, без (заметного) сопротивления, – писал Болотов. – Тем рельефнее выделился тот энергичный отпор, который иконоборцы встретили со стороны монашества»[51]. Поэтому Константин с особым неистовством и остервенелостью обрушился на монахов. Его ненависть обнаруживалась в тех кличках, которыми он клеймил их: «облеченные в тьму», «защитники идолов», и даже, словно это были столь зловещие и опасные существа, что уже само именование их способно причинить вред, – амнимоневти (неупоминамемые). Император «требовал, чтобы никто не смел поддерживать дружественных отношений с монахами, приветствовать их обычным ‟хайре”, напротив, преданные государю должны преследовать монахов бранью и каменьями»[52].
Орос иконоборческого собора не затрагивал монашества, но Копроним был радикальнее его участников. В своем оросе они отвергли несторианство и, прибегнув к софизмам, обвинили в приверженности этой ереси иконодулов, а император позволял себе кощунственные высказывания несторианской направленности о Божией Матери, которые он к тому же сопровождал вульгарной демонстрацией.
«Рассказывают, что он для доказательства несостоятельности почитания Пресвятой Богородицы, Самой по себе, вынув кошелек, наполненный золотом, спросил: дорого ли он стоит? Ему ответили, что дорого. Тогда император, высыпав золото и показывая пустой кошелек, повторил вопрос. Ответ был, что теперь кошелек ничего не стоит. Император пояснил, что как кошелек ценен лишь по содержимому им золоту, так и Богородица ничего не значит без Христа»[53].
Копроним в своих богословских воззрениях шел строго по следам Нестория
А судя по одной его беседе с Патриархом Константином, Копроним в своих богословских воззрениях шел строго по следам Нестория. Как рассказывает Феофан Исповедник, однажды «царь призвал Патриарха и сказал: ‟Какой вред для нас из того, если мы именуем Богородицу Христородицей?” Патриарх, обняв царя, отвечал: ‟Помилуй, государь! Да не придет тебе и на мысль такое слово. Разве ты не видишь, что вся Церковь проклинает имя Нестория и предает его анафеме?” Царь отвечал ему: ‟Я спросил только из любопытства”»[54]. Императору хватило здравого смысла, чтобы не выставлять себя перед народом приверженцем анафематствованной ереси, но видно и то, что спрашивал он Патриарха не из отвлеченного любопытства, а выдавая собственные убеждения.
Был еще один момент в насилии Копронима над религиозной совестью подданных, который не вытекал из ороса иконоборческого собора. В нем нет и тени посягательства на мощи святых угодников, а Копроним,
«царствовавший над христианами... причинил страшные бедствия всем православным в царстве своем... письменно и не письменно всюду объявлял бесполезными заступления Пресвятой Девы Богородицы и всех святых... закапывал святые мощи их... как сокровище хранимые, истреблял навсегда невозвратно»[55].
Избрав объектом своих преследований монахов, как главных виновников неискоренимости иконоборчества, император медлил, откладывал начало систематических гонений на них, потому что опасался отпора такой интенсивности, которая способна опрокинуть его трон или настолько потрясти империю, что она окажется не в состоянии справиться с обороной имперских границ от натиска со стороны халифата.
Первый из известных документально актов монахоборчества Копронима относится к 762 г., когда, как рассказывает Феофан,
«Константин, гонитель, на ристалище у святого Мамонта засек бичами Андрея, монаха почтеннейшего, по прозвищу Коливит, во Влахернах, который обличал его в нечестии и называл Валентом Новым и Иулианом; Константин даже приказал повергнуть тело его в море, но сестры извлекли его и похоронили»[56].
Давая обобщенную характеристику гонениям Копронима на монахов, святой Патриарх Никифор писал:
«Все благочестивые обычаи подвергались поношению. Жизнь людей благочестивых и прилежащих Богу высмеивалась и вышучивалась. Но всего более нечестиво преследовался священный чин монашествующих. Тех из них, кои хранили веру, оставались в монашеском образе и противились их нечестивому учению, подвергали разным пыткам и всевозможным мучениям и истязаниям. У одних беспощадно сжигали бороду, у других ее вырывали; у иных разбивали головы священными досками, на которых были начертаны священные изображения. Негодяи выкалывали у них глаза и бесчеловечно отсекали другие члены тела»[57].
И, как и в эпоху языческих императоров, гнавших Церковь,
«некоторые из них были увлечены в пропасть их погибели, поддались их нечестивому учению, или понуждаемые к тому силою, иди завлекаемые обманом и лестью, или прельщаемые деньгами, или стремясь к почетным должностям военной службы, или уловляясь в заблуждение другими многообразными ухищрениями лукавого, нарушили обет, переменили честное украшение, стали носить волосы, приняли тотчас мирской обычай, вступили в беседы с женщинами и возлюбили сожительство с ними».
21 августа 765 г., после неудачного похода против болгар, полагая, вероятно, монахов-иконодулов виновниками своего поражения, возможно, подозревая их в том, что они молились о его погибели, император «на ипподроме выставил... на посмеяние и на бесчестие образ монахов, приказал каждому из них вести за руку женщину... а... народ плевал на них и делал над ними все ругательства»[58].
Почитатели икон потрясены были жестокой расправой над затворником Стефаном из монастыря святого Авксентия, расположенного на азиатском берегу Босфора, близ Халкидона. Он был, по словам Феофана, «для всех мужем почтенным, потому что шестьдесят лет провел в затворничестве»[59]. Стефан постриг одного из приближенных императору юношей по имени Георгий по его же усердной просьбе, но три дня спустя тот бежал из монастыря во дворец и тем заслужил похвалу Копронима, который приказал на ипподроме совершить торжественное расстрижение Георгия с омовением его в воде и арестовать Стефана. Епископам-иконоборцам император повелел провести со Стефаном увещевательную беседу, с тем чтобы убедить его не высказываться впредь в защиту икон и не совершать постригов. Но такая попытка осталась тщетной, и святой Стефан был отправлен в ссылку на Приконис. Он, однако, и там не перестал отстаивать учение о почитании икон. Последовал донос, и неукротимого исповедника привезли на допрос к императору. По ходу беседы преподобномученик, бросив на землю монету с отчеканенным на ней портретом императора, стал ее топтать, чтобы наглядно представить, насколько несостоятельно утверждение иконоборцев и самого Константина, что икона Христа не имеет ничего общего с самим Спасителем, ибо честь и бесчестие с образа переходят на первообраз. Бесстрашного ревнителя истины обвинили в оскорблении величества и бросили в темницу, где он провел 11 месяцев вместе с другими 342 заточенными исповедниками. «У одних из них были отрезаны носы, уши или руки, у других бороды были насильно обриты или облиты смолою и опалены огнем»[60]. Наконец ему был вынесен смертный приговор.
 Прмч. Стефан Новый, Константинопольский Святой Стефан Новый был замучен 20 ноября 765 г. «учениками военных школ и воинами прочих отрядов... Привязав святого за ногу к корабельному веслу», они «влекли его от претории до Пелагеи (обветшавший и рухнувший храм святого мученика Пелагия, который Копроним обратил в ров для трупов преступников – В. Ц.), и здесь, растерзав его, бросили честные останки в яму насильственно убитых»[61]. Толпа обезумевших от ненависти иконоборцев хотела принудить к надругательству над останками святого его сестру, но та спряталась в гробнице. У гонимых почитателей икон создавалось впечатление, что в империю вернулись времена Нерона.
Прмч. Стефан Новый, Константинопольский Святой Стефан Новый был замучен 20 ноября 765 г. «учениками военных школ и воинами прочих отрядов... Привязав святого за ногу к корабельному веслу», они «влекли его от претории до Пелагеи (обветшавший и рухнувший храм святого мученика Пелагия, который Копроним обратил в ров для трупов преступников – В. Ц.), и здесь, растерзав его, бросили честные останки в яму насильственно убитых»[61]. Толпа обезумевших от ненависти иконоборцев хотела принудить к надругательству над останками святого его сестру, но та спряталась в гробнице. У гонимых почитателей икон создавалось впечатление, что в империю вернулись времена Нерона.
Насилия над монахами совершались не только в столице, но и в провинции. На Крите свирепствовал правитель острова Феодор Лардотир, приказавший сжечь живьем монаха Павла, пострадавшего за почитание икон. Для организации систематических гонений император направил сановников, которые пользовались его особым доверием, назначив их стратегами фем: Михаила Лаходракона – Фракисийской, Михаила Мелиссина – Анатолийской, Манеса – Букелларийской фемы. И вот, Лаходракон
Создавалось впечатление, что в империю вернулись времена Нерона
«собрал в Эфес всех монахов и монашенок в области Фракийской (собственно Фракисийской – фемы, расположенной в Малой Азии, а не во Фракии – В. Ц.), вывел их на поле, именуемое Цуканистирион, и говорил им: ‟Желающий повиноваться царю и нам пусть облечется в белое платье и в этот же час женится, а не исполняющие будут ослеплены и сосланы в Кипр”... И в этот день явились многие мученики; но также многие предались гибельной измене, которых принял благосклонно Дракон»[62].
 Лев III Исавр и его сын Константин V
Лев III Исавр и его сын Константин V
Как из этого трагифарса, так и из ряда других скандальных эпизодов можно заключить, что к тому времени был уже издан императорский эдикт о запрещении постригов, о принуждении монахов к снятию с себя монашеских обетов и о закрытии монастырей с конфискацией монастырских имений в пользу императорской казны, так что одним из мотивов Копронима, побуждавших его к гонениям на монахов, помимо ненависти к ним, было еще и стремление изыскать дополнительные средства на государственные расходы, на содержание армии и финансирование военных предприятий. Летописец гонений Феофан Исповедник поместил под 768-м г. такую запись:
«Монастыри и прочие убежища во славу Божию спасающихся обратил в сборные дома для единомышленных своих воинов. Далматскую общежительную обитель в Византии (здесь столичный город – В. Ц.) первую отдал в жилище воинам; обители Каллистрата, Дия, Максима и другие дома монахов и девиц приказал срыть до основания»[63].
Тотальную конфискацию монастырского достояния осуществлял во Фракисийской феме Лаходракон. Не успевая справиться с этим доблестным занятием лично, он привлек к нему «побочного своего сына Леона, по прозванию Кулука, и Леона, расстригу игумена, по прозванию Куцопалый»[64] и велел им «продавать все монастыри, мужские и женские, и все священные сосуды, и книги, и скот, и все, что служило к пропитанию их. Вырученные деньги представил он царю. Книги монашеские и патерики... предал огню, а хранившего их казнил. Многих монахов умертвил ударами бичей, и даже мечом, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывал бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким образом обжигал лица их и головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание и наконец в области своей не оставил никого, кто бы носил монашеское платье».[65] Император, «узнав об этом», изъявил ему свое высочайшее благоволение в таких словах: «Я нашел в тебе мужа по сердцу моему; ты исполняешь все желания мои»[66].
Результатом гонений стала массовая эмиграция монахов, которые бежали либо на окраины империи, куда не дотягивалась рука гонителей, – на Сицилию, в Апулию и Калабрию, в Тавриду, – либо вовсе за ее пределы, во владения халифата – в Сирию и Палестину. Близ Бари еще при Льве Исавре поселилось до тысячи монахов, выехавших из Эллады. В Калабрии с середины VIII столетия до начала X века было основано около 200 греческих монастырей.
«Весьма радушно принимали эмигрантов и Папы. Григорий III... основал... монастырь св. Хрисогона для совершения греческой литургии. Захария... отдал греческим монахиням монастырь на Марсовом поле. Павел I... в 761-м г. обратил собственный наследственный дом в монастырь св. Сильвестра и подарил его греческим эмигрантам... Общую численность выселившихся в южную Италию определяют в 50 000 человек»[67].
Опале подвергались не только монахи, но и вельможи. 25 августа 765 г. была учинена расправа над 19 сановниками, которые были обвинены в заговоре. Константин Подопагур, Стратигий, Антиох, Давид, Феофилакт Икониатис, Христофор, Константин сын Вардагна, еще один Константин и другие вельможи, имевшие высокие чины патрикиев, комитов, стратегов, императорских спафариев, были выведены на ипподром «и представлены для зрелища, как злоумышленники против царского величества»[68]. Копроним, «выставив их на ипподроме, дал повеление всенародно плевать на них и мучить»[69]. Затем братья Константин и Стратигий были обезглавлены на Собачьей площадке. Народ, очевидным образом не сочувствовавший императору, плакал при виде этой казни. Остальные участники мнимого заговора были ослеплены и отправлены в заточение, и царь, «высылая их... приказывал давать им ежегодно по сто ударов воловьими жилами»[70].
Через 5 дней после поношения арестованных вельмож на ипподроме и казни двоих из них на Собачьей площадке, 30 августа, император выдвинул обвинение в участии в заговоре против Патриарха Константина, его же ставленника. Копроним и раньше выказывал недовольство им. Дело было не в том, что он давал повод подозревать его в тайном иконопочитании. Далеко не самый видный и способный из участников иконоборческого собора, он был поставлен Патриархом по указанию императора, но можно предполагать, что Патриарх, или, если угодно, лже-Патриарх придерживался той линии, которая обозначена была на еретическом соборе, в то время как император своей оголтелой монахомахией, высказыванием откровенно несторианских идей, непочитанием Божией Матери шел дальше, хватал через край, на что Патриарх мог ему указывать, сдерживая его порывы и тем вызывая у него раздражение, которое накапливалось и наконец выплеснулось наружу.
За полгода до возбуждения дела император «заставил... Константина, лжеименного Патриарха, взойти на амвон и, возвысив Честные и Животворящие Древа, клясться, что он не принадлежит к почитателям икон. Он убедил его из монахов перевенчаться (вероятно, сложить монашеские обеты – В. Ц.), есть мясо и присутствовать за царским столом при песнях и плясках»[71]. И вот теперь ему было предъявлено обвинение в соучастии в заговоре. По словам Феофана, царь, «найдя из числа друзей его некоторых монахов, церковников и светских людей, подговорил их сказать: ‟Мы слышали совещание Патриарха с Подапагуром против царя”»[72]. Патриарх отверг обвинение, но подкупленные свидетели подтвердили свои показания. На этом основании был вынесен приговор: обвиняемый был сослан в Иерию, туда, где заседал собор, избравший его на патриарший престол, а оттуда он был переправлен на Принцевы острова.
Год спустя, 16 ноября 766 г., на место низложенного Константина, по повелению императора, Патриархом был поставлен «беззаконно Никита, евнух из славян»[73], который, в отличие от своего предшественника, ранее, видимо, не был епископом, поэтому Феофан Исповедник его поставление обозначает как хиротонию[74]. Прошел еще без малого год, и 6 октября сосланный на Принцевы острова Константин был возвращен в столицу, где возобновлено было расследование по обвинению его в заговоре. Допрашивал его сам император, и при этом собственноручно «так жестоко избил его, что он не мог ходить на ногах своих»[75]. Обвиняемого принесли на носилках в храм Святой Софии и «посадили на приступках великой церкви»[76]. По повелению императора жители столицы стеклись в храм и наблюдали происходящее. Секретарь зачитывал во всеуслышание обвинительное дело и «по прочтении каждой главы... бил его в лицо, в присутствии... Патриарха Никиты, который сидел на престоле своем. Потом подняли Константина, поставили прямо на амвоне; Никита взял бумаги, послал епископов снять с него омофор и предал проклятию, и, назвав его скотиопсин (‟помраченный”), вытолкал его в спину из церкви. В тот же день на ипподроме выдергали ему ресницы и брови, выдергали всю бороду и все волоса с головы; потом одели в шелковый без рукавов мешок, посадили на осла, наизворот оседланного, за хвост которого он должен был держаться, и вели его через малый на великий ипподром, и весь народ и все стороны смеялись и плевали на него. Осла тащил внук его Константин, с уже отрезанным носом. Когда он был посреди двух сторон зрителей, то все сошли с мест своих, плевали на него и бросали пылью. Приведя его к мете, сбросили его с осла и топтали шею его. Потом посадили перед народом, и он должен был слушать от них насмешки и ругательства»[77]. Затем его снова бросили в темницу.
В августе 767 г. император «послал к нему патрициев спросить: «Что ты думаешь о нашей вере и о соборе, который мы созвали?»[78]. Униженный и всячески, телесно и душевно, раздавленный Константин, в надежде на прощение, а по характеристике Феофана, еще и «потерявшись в уме», отвечал: «Ты прекрасно веруешь и прекрасно созвал синод»[79]. В ответ он услышал обескураживающе издевательский приговор: «Мы только и хотели слышать из скверных уст твоих; теперь ступай во тьму кромешную, под анафему»[80]. Утешением униженному страдальцу не могло служить сознание верности своему долгу, и, как пишет летописец зверств Копронима, «по сему приговору он был обезглавлен на Собачьей площадке. Голову его, привязанную за уши, повесили в Милии на три дня для показа народу, а тело, привязав к веслу, повергли вместе с насильственно умершими. Через три дня туда же бросили и главу его»[81]. Феофан, выставивший казненного Константина, которого он считал лже-Партриархом, в самом мрачном свете, тем не менее не преминул выразить ужас перед злодеянием императора, приказавшего предать его позорной казни: «Вот безумие, жестокость и бесчеловечие, сродное лютому зверю!» Летописца в особое изумление повергает то обстоятельство, что Копроним «не устыдился купели», из которой казненный им «восприял... двух детей его от третьего брака»[82].
Гонения на иконы и их почитателей достигли апогея в последние годы правления Копронима, в патриаршество Никиты, который не препятствовал императору, помраченному от ненависти к святыне, творить дела тьмы:
«Тогда же послал он за Петром, почтенным столпником, которого и привели к нему с камня, и поелику столпник не соглашался с учением его, то приказал его связать за ноги, влачить живого по площади и повергнуть с трупами в Пелагиях. Других сажал в мешки и, привязав к ним каменья, приказывал бросать в море, ослеплял, отрезал носы, терзал бичами и вымышлял все роды казней на благочестивых... Сам между тем забавлялся музыкой, пиршествами, сквернословием и пляской вместе со своими приближенными. И если кто, упав или чувствуя боль, произносил обычные христианам слова: ‟Богородице, помози”, или кого заставали на молитве всенощной, или в церкви молящегося, или в благочестии живущего, или не употреблявшего пустых клятв, тех казнили, как врагов царских»[83].
А тем временем Никита свирепствовал против святых икон. В 768-м г. он выломал и уничтожил мозаичные иконы, находившиеся в его резиденции, после чего интерьеры патриархии были украшены декоративной живописью: натюрмортами, пейзажами, изображениями птиц и зверей, а также сценами охоты. Мозаичные изображения были удалены и со стен Святой Софии.
Деяния и злодеяния Константина Копронима не были тайной для православных Патриархов Востока, которые, будучи подданными халифа, не зависели от него. Прямым образом они не анафематствовали его, хотя бы уже потому, что он был вне их канонической юрисдикции, да и не существовало традиции предавать анафеме императоров-еретиков, но косвенным образом Патриархи выразили свое вполне определенное отношение к иконоборчеству и иконоборцам на примере одного из епископов Антиохийского Патриархата. Как рассказывает Феофан Исповедник, в 764-м г.
«некто Козма, епископ Епифании, при сирийской Апамее, по прозванию Комантин... отпал от православной веры и сделался единомышленником Константиновой ереси против святых икон. И Феодор, Патриарх Антиохийский, и Феодор Иерусалимский, и Козма Александрийский с епископами, им подчиненными, в день святой Пятидесятницы по прочтении святого Евангелия единомысленно каждый в своем граде предали его анафеме»[84].
Это был приговор иконоборческой ереси, ярым приверженцем которой был Константин Копроним, вынесенный при его жизни.