–
Ваше высокопреосвященство, на
последних Рождественских чтениях вы
выступали на секции, работа которой была
посвящена воскресным школам. На ваш
взгляд, чем должен отличаться предмет
«Основы православной
культуры», преподаваемый в обычной
школе, от предмета «Закон Божий», который
преподается в школах воскресных, при
храмах?
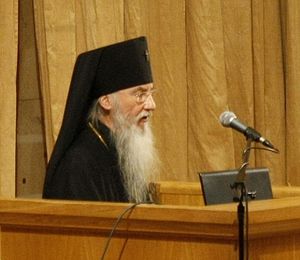
– Мне кажется, что курс «Основы православной культуры» по преимуществу должен касаться более общих тем, чем предмет «Закон Божий». «Закон Божий», как мы его преподаем в воскресных школах, это предмет, который все-таки связан с духовным руководством молодежи со стороны преимущественно священника или же мирянина, который твердо строит жизнь свою на учении Церкви, таинствах и т.д. А «Основы православной культуры» охватывают более широкую область и не должны касаться чисто духовных вопросов и, таким образом, могут преподаваться учителями, которые не обязательно настолько тесно связаны с церковной жизнью. Конечно, хотелось бы, чтобы они также стояли крепко в духовной традиции нашей Церкви, но мы не можем этого ожидать от каждого учителя. Потому, учитывая это различие, в общеобразовательных школах преимущество отдается курсу «Основы православной культуры». А на этих уроках можно подвести молодежь и к церковным вопросам, даже ту молодежь, которая по своему домашнему воспитанию стоит далеко от Церкви. От предмета же «Закон Божий» школьники просто откажутся или же их с самого начала не будут пускать туда, их родители не будут это поощрять. Между тем, на занятиях по курсу «Основы православной культуры» есть возможность большее широкой миссионерской деятельности.
– Какой предмет, связанный с изучением религии, преподается в немецких школах?
– Этот предмет в Германии называется «Закон Божий», но на самом деле он скорее похож на то, что в России называют «Основы православной культуры». Потому что в Германии на этих занятиях большей частью обсуждаются общие вопросы, связанные с их религиозной и культурной основами, даются сведения из сравнительного богословия и сведения о тех понятиях, на которой стоит их церковная жизнь. То, что я называю собственно законом Божиим, если и преподается в школах, то ксендзами и пасторами, подобно тому, как у нас преподают этот курс исключительно священники, которые, естественно, должны иметь соответствующее образование.
– Священники в обычной гражданской школе преподают закон Божий в церковной одежде, с крестом?
– Конечно, и тут не возникает каких-либо проблем. Но в случае с нашей Церковью – Русской Зарубежной Церковью – вот что надо учитывать: очень редко у нас бывает достаточно много учеников в одной школе, чтобы мы могли туда послать священника. Поэтому в основном мы идем противоположным путем: мы приглашаем учеников к себе в храм. Для каждого возраста выбирается какой-либо день недели, в который именно для детей таких-то классов священник ведет урок «Закона Божий». Так что практически всю неделю наши священники заняты этим, распределив разные классы по разным дням. У греков, которых гораздо больше в некоторых землях Германии, есть свои школы, и у них закон Божий преподается прямо в школе.
– В России в большей части школ предмет «Основы православной культуры» преподают обычные преподаватели – мужчины и женщины, а не духовенство. И, конечно, возникает очень большой кадровый вопрос, связанный с образом учителя. Существует дилемма: должен ли это быть, прежде всего, педагог или, прежде всего, верующий человек. Как в этом случае нужно выбирать и можно ли выбирать?
– Я бы, конечно, предпочел, чтобы это был, прежде всего, человек глубоко верующий и достаточно опытный в церковной и духовной жизни. Но я понимаю, что этого нельзя ожидать от всех, это большая проблема. И в XIX веке святитель Филарет (Дроздов) не согласился на то, чтобы подчинить всю школьную систему Церкви, как ему предлагали. И мы здесь должны быть очень осторожны. Чего, собственно, мы хотим? Я думаю, что общие курсы вполне могут преподаваться учителями, которые увлечены этим предметом, интересуются им, изучали его – и слава Богу. Будем надеяться, что они будут сами расти по мере преподавания этого предмета, духовно расти и приближаться к Церкви.
– Владыка, в детской аудитории иногда преподаватели различных предметов принимают какие-то меры снисхождения к учащимся и могут рассказать какую-то веселую историю, пошутить. А как быть преподавателю основ православной культуры, который должен, по идее, держать все время достаточно строгий тон и соответствовать возвышенному образу? Можно ли ему шутить?
– Есть моменты, к которым можно с легким юмором подходить даже и при преподавании закона Божия или основ православной культуры. Например, я могу каким-то детям рассказать, что Господь приехал в Иерусалим на ослике, а не на «Мерседесе». Такие легкие шутки вполне приемлемы, я думаю. Но, конечно, все это должно быть в определенных рамках.
– На ваш взгляд, предмет «Основы православной культуры» должен быть общеобязательным или факультативным, который выбирают учащиеся на альтернативной основе?
– Я думаю, что он должен быть одним из двух обязательных предметов: или основы православной культуры», или светская этика. Но мы не можем заставлять людей насильно изучать этот курс, очень нам дорогой. Да и не хотим. Это было бы в какой-то мере даже, может быть, святотатством. Поэтому надо очень осторожно подходить к этому, заставлять никого не надо… Но я думаю, что люди, которые мало-мальски разбираются в русской культуре, понимают, что нельзя быть даже полувоспитанным, просто образованным русским человеком, не зная своей культуры. И светская этика им ничего не даст. Она даст какие-то общие правила, но она не может дать того фона, который нужен любому человеку, живущему в России, называющему себя русским и говорящему на русском языке. Ему нужны основы православной культуры, ибо он не сможет иначе понять, например, Достоевского или Гоголя, да и всю русскую литературу.
– Некоторые светские критики, правда, отделяют культурообразующую часть от религиозной. Как бы и здесь не произошло так, что преподавание основ православной культуры выльется лишь в описание шедевров русской литературы или искусства. Ведь этот предмет все-таки, по идее, должен давать религиозную составляющую. Как же в одном предмете сказать и о русской культуре, и о религии?
– Я думаю, что это зависит, прежде всего, от учителя. Но в любом случае, тут нужен план преподавания: что и в каком объеме давать. И в этих рамках каждый учитель свободен двигаться налево или направо, и он будет пользоваться этой возможностью естественным образом. Но я думаю, что заниматься, скажем, только литературой, например XVIII или XIX века, без духовных составляющих просто нельзя. И если учитель немного скажет об этом, он все-таки приоткроет дверь, и ученики уже могут потом в дальнейшем сами испытывать, что там скрывается за этой дверью.
– Выходит, что все зависит от степени религиозности самого учителя?
– Это играет большую роль, безусловно.
– Владыка, преподавая закон Божий в воскресных школах так или иначе мы делаем акцент на словах «закон» и «Божий». Но ведь христиане находятся не под законом, а под благодатью, как писал апостол Павел. И, соответственно, возникает вопрос: нужно ли держаться за название «Закон Божий» или все-таки возможен поиск какого-то другого названия, которое бы отображало суть христианства как религии, в которой люди живут под Божией благодатью?
– Думаю, что, действительно, было бы правильнее называть эту учебную дисциплину по-другому. Мы сейчас пользуемся традиционным словосочетанием, которое на самом деле скрывает в себе какой-то оттенок не того направления, какой бы нам хотелось иметь. Но тут надо учитывать, что в эмиграции мы не желаем вносить каких-либо новшеств. Именно потому, чтобы не отделяться от Русской Церкви. Поэтому мы во многом более консервативны.
– Как на ваш взгляд, что самое главное детям должен дать предмет «Закон Божий» в церковно-приходской школе?
– Он должен подвести ребенка к самому важному – к причастию и ко всему, что связано с этим: к исповеди, к церковно-духовной жизни и таинствам. Это – главное.






