Сайт «Православие.Ру» продолжает публикацию фрагментов новой книги церковного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской».
О границе эпох
 Император Константин Великий. Фрагмент мозаики. Собор Святой Софии в Константинополе. Конец X века. В историографии существуют разные версии хронологической границы, разделяющей античность и средневековье. Один из вариантов периодизации сопрягает начало средневековой эпохи с разделением Римской империи по завещанию святого императора Феодосия Великого между его сыновьями Аркадием и Гонорием на две части, и одна из них с этих пор именуется историками уже Западной Римской империей, а другая – Восточно-Римской, или Византийской. Между тем ни императоры, ни их подданные – римляне, или, по-гречески, ромеи, разумеется, даже и не подозревали, что именно так стали называться два новых государства, на которые разделилась единая прежде империя. Хорошо известно, что это только кабинетные топонимы.
Император Константин Великий. Фрагмент мозаики. Собор Святой Софии в Константинополе. Конец X века. В историографии существуют разные версии хронологической границы, разделяющей античность и средневековье. Один из вариантов периодизации сопрягает начало средневековой эпохи с разделением Римской империи по завещанию святого императора Феодосия Великого между его сыновьями Аркадием и Гонорием на две части, и одна из них с этих пор именуется историками уже Западной Римской империей, а другая – Восточно-Римской, или Византийской. Между тем ни императоры, ни их подданные – римляне, или, по-гречески, ромеи, разумеется, даже и не подозревали, что именно так стали называться два новых государства, на которые разделилась единая прежде империя. Хорошо известно, что это только кабинетные топонимы.
Здесь важно, однако, иное обстоятельство: сам факт разделения империи в 395 году представляется фантомом. В порядке управления – но при сохранении имперского единства, единого юридического пространства – империю делили не раз и до Феодосия Великого: соправительство при территориальном размежевании сфер ответственности императоров случалось и до Диоклетиана, Диоклетиан установил режим тетрархии, после кончины святого Константина империя разделена была на три части между его сыновьями, а потом воссоединилась под властью одного из них – Констанция. Не прошло и сотни лет после мнимого раздела империи в 395 году, как в 476 году предводитель варварских полчищ Одоакр низложил западно-римского, как его называют историки, императора Ромула Августула и, отослав императорские инсигнии в Константинополь, восстановил единство империи. Это верно, что власть Зинона над западной частью империи оставалась номинальной, но таковой она была уже и раньше, при девяти последних западно-римских императорах, юридически же Одоакр стал всего лишь наместником единовластного с этих пор римского императора Зинона, имевшего резиденцию в Константинополе, с титулом римского патриция. А при святом Юстиниане восстановлена была вполне реальная власть императора над западными диоцезами, включая Италию, Африку и даже часть Испании, и хотя после Юстиниана западные владения были утрачены империей, но не в Италии и не над самим Римом, который еще в течение двух веков управлялся из Нового Рима наместниками императоров. Таким образом, поскольку ничего радикально значимого в 395 году не произошло, эта дата не годится в качестве эпохального рубежа.
Иная версия границы периодов – упомянутое уже низложение Ромула Августула, возводимое в статус «падения Западной Римской империи». О малозначимости этого события сказано достаточно. Падения Западной Римской империи быть вообще не могло, потому что призрачно и надуманно само ее существование. Для римлян гораздо более роковым событием, чем падение несуществовавшей империи и низложение находившегося в Равенне и без того безвластного императора, был причинивший им неслыханные бедствия и действительно потрясший основы их мирочувствия захват Рима полчищами Алариха в 410 году, так что на поверку оба упомянутых варианта хронологической границы – 395 и 476 годы – должны быть отвергнуты ввиду относительной малозначности произошедших тогда событий.
И все же античный мир свое существование действительно прекратил, и считается, что на смену ему пришло средневековье. Но что такое средневековье? Откуда пошел сам этот термин «medium aevum»? Он появился в эпоху гуманизма и первоначально обозначал время упадка классической латыни, когда на смену языку Цицерона пришла «кухонная», или «вульгарная», латынь – «sermo rusticus» («деревенская речь»). В этой системе координат средние века продолжались до опытов возрождения классической латыни, предпринятых гуманистами. Немецкий историк XVII века Христофор Целларий (Келлер) перенес эту периодизацию из области филологии и культуры на историю в собственном смысле слова, разделив мировую историю на три эпохи и выделив из нее, таким образом, средние века. Концепция Целлария была воспринята его коллегами и в конце концов стала нормативной в науке и расхожим трюизмом в непрофессиональной среде, легла в основу школьного преподавания всемирной истории. Конец средневековья традиционно датировали падением Константинополя в 1453 году. Эту периодизацию, сложившуюся на материале европейском и средиземноморском, и сам Целларий, и после него другие историки переносили на другие регионы и цивилизации, в рамках которых она не имела для себя совсем никаких оснований.
При этом точные даты начала и конца средневековья смещались в зависимости от разных причин, в том числе и от идеологических доктрин, и это касается не только начала, но и конца средневековья. Его отодвигали до рубежа XV и XVI столетий – эпохи великих географических открытий, до начала Реформации, и даже – в советской историографии – конец средневековья датировался серединой XVII века – началом английской революции, которой усваивался статус первой в истории буржуазной революции. Эпоху абсолютизма, по существу дела представляющего собой антитезу феодализма в первоначальном и классическом значении этого термина, в рамках формационной теории исторического процесса рассматривали как продолжение радикально отличного от него феодализма. На исходе XX века была выдвинута идея, продлевающая средневековье еще на полтора столетия – до конца XVIII или даже до первой трети XIX века. Автор концепции «долгого средневековья» – знаменитый французский медиевист Ж. Ле Гофф. При этом и начало средневековой эпохи отодвигается до III столетия от Р.Х., когда Римская империя вступила в состояние затяжного кризиса.
И все же, если опираться на здравый смысл в оценке исторических явлений, нельзя отвернуться от того обстоятельства, что самой характерной чертой западноевропейского средневековья был феодализм, причем в классическом значении понятия, относящемся преимущественно к специфическому политическому и юридическому строю общества и только потом к экономическим отношениям. Параллельные явления наблюдались и в Восточной Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке, причем в разные эпохи, в том числе и в древности, но классический феодализм сложился все-таки в Западной Европе, вот только не в середине I тысячелетия от Р.Х., а многими столетиями позже всех расхожих вариантов датировки конца античности, вероятно уже только в начале II тысячелетия, при этом предпосылки к его появлению начали появляться в эпоху Карла Великого.
Европа первой половины и середины I тысячелетия от Р.Х. не была феодальной. Раннесредневековые, если угодно, бенефиции радикально отличались от действительно феодальных ленов и фьефов, откуда и пошло само понятие «феодализм». В пределах Римской (Ромейской) империи, которая до VIII века включала в себя значительную часть Италии, Сицилию и сам Рим, весь строй государственной, общественной и даже экономической жизни существенно отличался от классического феодализма, в нем сохранились еще многие черты античного мира.
Характерной чертой этой эпохи, сближающей ее с античностью и отделяющей ее от подлинного средневековья, является то обстоятельство, что до экспансии ислама ареной большой истории оставалось Средиземноморье с примыкающими к нему регионами, расположившимися в трех частях света, а не Европа в ее географических границах. До самого конца I тысячелетия контрастной культурной границей, разделявшей саму Европу, оставался лимес, давно прорванный и упраздненный как комплекс оборонительных сооружений, но сохранивший значение границы двух культурных миров, разумеется, лишь в общих чертах, без топографических деталей. В сравнении с этим колоссальным контрастом различия между европейским Востоком и Западом имели лишь второстепенное, едва заметное значение. Рим и Равенна, города южной Галлии и Испании составляли культурное пространство, существенно идентичное тому, что названо было историками позднейшего времени Византией, решительно не похожее на полуварварскую арианскую и варварскую языческую северную Европу как на ее западе, так и на востоке. Иными словами, римляне и ромеи отличались друг от друга несравненно меньше, чем те и другие от германских, славянских и финских народов, в отличие от ситуации, сложившейся во II тысячелетии, когда Европа совсем иначе разделена была на две сферы: православный Восток и католический Запад.
Но Европа I тысячелетия, сохраняя характерные черты античного мира, в то же время радикально отличалась от него. И в сердцевине этого контраста лежит, конечно, религиозный фактор. Главное, что отличало Римскую империю до святого Константина и после него – это место в ней христианской Церкви, гонимой при императорах-язычниках и ставшей ее душой и сердцем во времена христианских императоров. Именно этим – своей приверженностью Церкви, своим покорством Христу – раннесредневековая Европа сближается со средневековой в классическом смысле слова. Но Европа оставалась еще христианской и после того, как средневековье ушло в прошлое. Таким образом, вера во Христа как стержень духовной жизни характеризует европейскую историю на значительно более длительном ее протяжении, чем средневековье. Исповедание Христа рассекает европейскую историю на два ее периода – дохристианский и христианский, но оно не может служить маркером средневековья.
Самый очевидный выход из обозначенных здесь трудностей в периодизации европейской истории лежит на поверхности, и заключается он в выделении эпохи от святого Константина до Карла Великого, которая в церковной истории традиционно обозначается как эпоха Вселенских соборов, в самостоятельный период – уже не античный, но и еще не средневековый. При его выделении вопрос о начале эпохи решается самым очевидным образом в пользу времени правления Константина Великого. При этом из значимых событий его эпохи (издание Миланского эдикта, созыв собора в Никее, основание Нового Рима – Константинополя) предпочтение следует отдать все-таки 313 году, когда с изданием эдикта о свободе исповедания для христиан началось формирование симфонии священства и царства, составившей самую важную черту государственного строя Римской империи. В сравнении с этим событием акты 395 и 476 года и даже захват Рима варварами в 410 году меркнут и уходят в тень. Завершается же эпоха образованием, в действительности впервые, сепаратной империи на Западе в 800 году. При этом два с половиной следующих столетия, вплоть до великого раскола 1054 года, были эпохой предсредневековья, а средневековье в собственном смысле слова началось уже после разрыва Западом церковного общения с Востоком, когда в Западной Европе в параллель с католичеством сложился классический феодализм и начались крестовые походы.
Но почему подобная периодизация, обоснованность которой представляется вполне веской, если не сказать очевидной, в историографии фактически неизвестна? Объяснение этому феномену заключается главным образом в том, что при принятии ее невозможно обойти то обстоятельство, что в период христианской Римской империи, в эпоху Вселенских соборов, когда собственно и рождалась Европа, ее эпицентр находился не на западе, а на востоке эйкумены, и это был уже не ветхий, но Новый Рим, выстроенный святым Константином в молниеносно короткий по историческим меркам срок на европейском берегу Босфора, на месте древнего Византия. Долгое средневековье, включающее в себя столь разительно отличающиеся друг от друга эпохи по обе стороны от хронологического перевала между I и II тысячелетиями от Р.Х., изобретено было и охотно подхвачено западной исторической наукой, а затем, ввиду ее монополии, стало едва ли не общепринятым, чтобы уклониться от признания гегемонии Константинополя в европейской цивилизации на протяжении целой эпохи ее истории. Есть насущная необходимость в коррекции оси исторических координат.
Итак, новый период в истории Европы, продолжавшийся в течение нескольких столетий до переходной эпохи Карла Великого, открылся правлением святого Константина.
Жизнь Константина до начала его правления империей
 Гай Флавий Валерий Константин родился 27 февраля 274 года в иллирийском городе Наиссе (ныне сербский Ниш) в семье Констанция, романизованного иллирийца, состоявшего в отдаленном родстве с императором Клавдием II, и его первой супруги святой Елены. Мать Константина родилась около 244 года. Хотя в средневековье в Англии возникла романическая версия о том, что она дочь короля бриттов Коула Колчестерского, ее действительное происхождение было несравненно более прозаическим и заурядным. Отец святой Елены, судя по древним, в том числе агиографическим, источникам, был трактирщиком в сицилийском Дрепане, где и могло произойти ее знакомство с офицером или уже генералом Констанцием Хлором, взявшим ее в жены. Елена была христианкой, и снисходительное отношение Констанция к христианам в той части империи, которой он правил в период тетрархии, до известной степени могло проистекать от влияния его жены, впрочем, в ту пору уже бывшей. По указанию Диоклетиана Констанций Хлор должен был оставить ее перед назначением его цезарем, чтобы породниться с августом Максимином, помощником которого он становился, женившись на его падчерице Феодоре, которая родила ему трех сыновей и трех дочерей.
Гай Флавий Валерий Константин родился 27 февраля 274 года в иллирийском городе Наиссе (ныне сербский Ниш) в семье Констанция, романизованного иллирийца, состоявшего в отдаленном родстве с императором Клавдием II, и его первой супруги святой Елены. Мать Константина родилась около 244 года. Хотя в средневековье в Англии возникла романическая версия о том, что она дочь короля бриттов Коула Колчестерского, ее действительное происхождение было несравненно более прозаическим и заурядным. Отец святой Елены, судя по древним, в том числе агиографическим, источникам, был трактирщиком в сицилийском Дрепане, где и могло произойти ее знакомство с офицером или уже генералом Констанцием Хлором, взявшим ее в жены. Елена была христианкой, и снисходительное отношение Констанция к христианам в той части империи, которой он правил в период тетрархии, до известной степени могло проистекать от влияния его жены, впрочем, в ту пору уже бывшей. По указанию Диоклетиана Констанций Хлор должен был оставить ее перед назначением его цезарем, чтобы породниться с августом Максимином, помощником которого он становился, женившись на его падчерице Феодоре, которая родила ему трех сыновей и трех дочерей.
Разлученная императором со своим мужем, Елена пребывала в скромном положении, обстоятельства которого неизвестны документально, пока ее сын, став правителем империи, не возвысил ее, удостоив титула августы. Своим всемирно историческим подвигом – изданием Миланского эдикта, положившего начало христианизации Римской империи, – Константин до известной степени обязан своей матери. Хотя ни в детстве, ни в юности, находясь при своем отце, а потом в свите Диоклетиана, Константин не был сознательным христианином, но его отношение к единоверцам матери и к исповедуемому ими учению зависело, очевидно, от светлых впечатлений, которые он имел от общения с нею. Возвышенная сыном в старости, святая Елена тяготилась пышностью дворцовой жизни и на закате своего земного жития отправилась в долгое паломничество на святую землю Палестины. Преставилась она по возвращении к сыну уже в начале 330-х годов.
Отправив цезаря Констанция Хлора на запад империи, Диоклетиан оставил при себе его сына, до известной степени в качестве заложника – для предотвращения возможных узурпаторских поползновений со стороны его отца; но, пребывая во дворце, Константин пользовался подобающим ему по его положению почетом, привлекался к исполнению административных поручений и участвовал вместе с верховным правителем в походах и сражениях. Получив ранее основательное книжное образование, о чем свидетельствует составленное им богословское сочинение, сохранившееся до наших дней, он обучался воинскому и полководческому искусству, делам государственного правления.
Его биограф Евсевий Кесарийский сравнивает положение Константина в свите Диоклетиана с пребыванием во дворце фараона пророка Божия Моисея, которому, «бывшему еще младенцем», «Бог… дал случай… получить воспитание в самих чертогах, на груди тиранов, и научиться у них мудрости»[1]. Императоров, учинивших гонение на Церковь, Евсевий называет тиранами, замечая при этом, что «среди них был уже Константин, впоследствии бич тиранов, но тогда еще юноша ранних лет, нежный, украшенный едва пробившейся бородой»[2].
В 295 и 296 годах Константин участвовал в военной экспедиции в Египте, состоя в свите Диоклетиана. На обратном пути они останавливались в Кесарии Палестинской. Евсевию, позже ставшему епископом этого города, а тогда еще мирянину, другу и ученику святого Памфила – мученически скончавшегося богослова оригеновской школы, случилось увидеть Константина, и в своем жизнеописании императора он писал, вспоминая полученные тогда впечатления: «Стоя с правой стороны от василевса, людям, желавшим видеть его, он казался величественным и уже в то время обнаруживал в себе знаки царского высокомудрия. По красоте тела и высоте роста не было подобного ему, а телесной силой до того превосходил он сверстников, что они боялись его»[3]. Патетический тон этого словесного портрета мог бы представляться вытекающим из панегирической стилистики биографии, если бы не статуи Константина, в особенности та, от которой сохранилась огромных размеров голова (сейчас в находится в Капитолийском музее) – с прекрасными и правильными чертами лица человека, исполненного поразительного мужества, властности, абсолютной самодостаточности и спокойной решительности. Более царственный образ едва ли вообще существует. Любопытно, что в средневековье первого христианского императора представляли в ином образе. На Капитолии сохранилась конная статуя гонителя христиан Марка Аврелия, бородатого, с задумчивым, мягким, если не сказать кротким, выражением лица. Она уцелела потому, что ее считали изображением святого Константина.
В 299 году, во время войны с персами, святой Константин был ближайшим помощником Диоклетиана, уже тогда обнаружив свои незаурядные полководческие дарования. Константин находился рядом с первым августом при разрушении никомидийской церкви, которым открылись гонения на христиан, но нет никаких свидетельств того, что он лично был прикосновенен к этим гонениям, а судя по положению христиан в области, контролируемой его отцом, можно косвенно заключить, что он положительно не сочувствовал гонителям.
Когда после ухода Диоклетиана от власти и переезда его в Салону в 305 году Константин оказался во власти находившегося в Никомидии Галерия, особенно яростно преследовавшего и истреблявшего христиан, он осознал грозившую ему опасность со стороны нового августа, стремившегося к единовластию и знавшего о болезненном состоянии своего соправителя Констанция, пребывавшего тогда далеко на западе. И Константин обнаружил тогда поразительную изобретательность, решимость, храбрость и выносливость: усыпив бдительность Галерия, он бежал от никомидийского двора к своему отцу. Чтобы предотвратить погоню, он, как известно, велел перерезать жилы почтовым лошадям по пути своего следования на запад. Встретившись с тяжело больным отцом в Булони, где готовилась военно-морская экспедиция в Британию против прорвавших Адрианов вал пиктов, Константин отправился через Ла-Манш вместе с отцом. Из-за болезни отца именно ему пришлось осуществлять практическое руководство военными действиями, и в течение нескольких недель пикты были разбиты, а их остатки отброшены на север, за Адрианов вал.
25 июля 306 года Констанций Хлор умер в Эбураке (Йорке), и сразу же после этого печального события его боевой товарищ – король союзных Риму алеманов, командовавший германскими вспомогательными войсками, провозгласил новым августом Константина, и он незамедлительно был аккламирован легионерами и федератами, находившимися в Эбураке, а затем вскоре признан августом и императором всеми войсками, состоявшими ранее под командованием его отца. С этих пор святой Константин стал одним из ключевых участников политической и вооруженной борьбы за власть в империи. Первым браком Константин был женат на Минервине, которая родила ему сына Криспа, вторым – на дочери Максимиана Фаусте, от которой он имел трех сыновей: Констанция, Константа и Константина.
Обращение Константина и его победа над Максенцием
 Сон Константина и Победа Константина над Максенцием у Мульвиева моста в Риме 26 октября 312 года. Византийская миниатюра. IX век После самоубийства Максимиана и смерти Галерия в 311 году в империи осталось четыре правителя, из которых каждый именовал себя августом и императором, не признавая верховных прав конкурентов, но был готов к образованию коалиций, направленных против общих соперников. Это были святой Константин, власть которого распространялась на заальпийский Запад, сын Максимиана Максенций, имевший резиденцию в имперской столице Риме и правивший в Италии, Испании и Африке, Лициний, контролировавший Балканы и примыкавшую к ним территорию центральной Европы, и, наконец, Максимин Даза, который держал в своих руках азиатские провинции и Египет – самую населенную и богатую часть имперской территории. С точки зрения легитимности, восходящей к конституировавшему новый порядок управления империей акту Диоклетиана и его преемников, законными правителями могли считаться Константин, Лициний и до известной степени Максимин Даза, который, вероятно, имел право на титул цезаря, но не августа, в то время как Максенций справедливо рассматривался соперниками как тиран, что на юридическом языке той эпохи обозначало узурпатора.
Сон Константина и Победа Константина над Максенцием у Мульвиева моста в Риме 26 октября 312 года. Византийская миниатюра. IX век После самоубийства Максимиана и смерти Галерия в 311 году в империи осталось четыре правителя, из которых каждый именовал себя августом и императором, не признавая верховных прав конкурентов, но был готов к образованию коалиций, направленных против общих соперников. Это были святой Константин, власть которого распространялась на заальпийский Запад, сын Максимиана Максенций, имевший резиденцию в имперской столице Риме и правивший в Италии, Испании и Африке, Лициний, контролировавший Балканы и примыкавшую к ним территорию центральной Европы, и, наконец, Максимин Даза, который держал в своих руках азиатские провинции и Египет – самую населенную и богатую часть имперской территории. С точки зрения легитимности, восходящей к конституировавшему новый порядок управления империей акту Диоклетиана и его преемников, законными правителями могли считаться Константин, Лициний и до известной степени Максимин Даза, который, вероятно, имел право на титул цезаря, но не августа, в то время как Максенций справедливо рассматривался соперниками как тиран, что на юридическом языке той эпохи обозначало узурпатора.
Не признаваемый августами Константином и Лицинием Максенций обрел союзника в лице обладавшего сомнительными правами Максимина Дазы. На этот союз их обоих подталкивало также отсутствие опоры в населении подвластных им стран. Даза обнаружил себя заядлым врагом Церкви, а в его власти находились самые христианизированные провинции империи, к тому же местные язычники, с ужасом наблюдавшие преследование своих соседей и часто добрых друзей христиан, не сочувствовали гонениям – кровожадные фанатики составляли среди них исключение. Максенций же был ненавидим подвластным ему народом ввиду действительно тиранического режима, который он установил, особенно в Риме, и из-за своей крайней и вызывающей безнравственности, напоминавшей римлянам, и особенно страдавшим от его произвола сенаторам, о временах Калигулы, Нерона и Коммода. «Завладев хищнически царственным городом, тиран, – по словам Евсевия, – непрестанно отваживался на нечестивые и злодейские поступки… У мужей отнимал законных жен и, обесчестив их, отсылал с позором назад к мужьям. Такие насилия совершал он не с незначительными и маловажными людьми, а с занимавшими первые места в римском сенате»[4]. Терроризируя ненавидевших его сенаторов, узурпатор не щадил и простолюдинов: «Однажды под каким-то незначительным предлогом он предал народ на убийство своим копьеносцам, и целые тысячи римлян пали среди города не от скифов или варваров, но от копий и оружия сограждан»[5]. Константин знал, что в Риме его встретят как освободителя от тирании. Евсевий, может быть и упрощая ситуацию в панегирическую сторону, так писал о причинах, побудивших Константина к войне против Максенция: «Потом он представил себе всю ойкумену как одно великое тело и, видя, что глава этого тела – царственный город Римской земли – терпит рабское притеснение от тирана, защиту его сперва предоставил властителям над прочими частями государства, как лицам, по возрасту старше себя. Но когда никто из них был не в состоянии оказать помощь свою Риму, так что желавшие попытаться постыдно оканчивали свое предприятие, Константин сказал, что жизнь ему не в жизнь, пока царственный город будет оставаться под бременем бедствий, и начал готовиться к уничтожению тирана»[6].
Сам же Максенций обоснованием предстоящей войны выдвинул месть за гибель своего отца Максимиана, повесившегося после последней неудачной попытки устранить Константина, который предоставил ему свободу в выборе способа самоубийства. Максимиан если и имел популярность, то лишь в войсках, которыми он некогда командовал, иными словами – среди находившихся под началом Максенция ветеранов, так что обозначенная Максенцием цель войны, относившаяся к частной жизни узурпатора, к тому же скорее демагогическая, поскольку его взаимоотношения с отцом не раз обострялись до откровенной вражды и соперничества, не могла вызвать ни доверия, ни широкой поддержки. Вступив в схватку с Константином, Максенций не использовал лозунга защиты древней отечественной религии от экспансии христианской веры, к которой, как это виделось уже тогда многим, склонялся его противник, – этот лозунг был вконец дискредитирован провальной кампанией Диоклетиана и Галерия; но, сознавая смертельную опасность начавшейся борьбы, он обнаружил приверженность темной и изуверской оккультистской практике в надежде получить помощь от инфернальных сил: по словам Евсевия, «он вдался в чародейство. Для целей магии то рассекал он беременных женщин, то рассматривал внутренности новорожденных младенцев, то умерщвлял львов и совершал другие невыразимые мерзости, чтобы вызвать демонов и отвратить наступавшую войну. Этими-то способами надеялся он одержать победу»[7]. В словах биографа можно, придираясь, обнаружить противоречие, но оно мнимое: Максенций не хотел этой войны, сознавая ее бесперспективность, – она была навязана ему Константином; но уж коли она началась, ему оставалось только цепляться за надежду на победу.
Перед началом войны Константин сблизился с августом Лицинием. Залогом их союза стала помолвка между Лицинием и единокровной сестрой Константина Констанцией. Лициний не участвовал в боевых действиях против Максенция, но тылы Константина в центральной Европе могли считаться безопасными благодаря этому союзу.
Поскольку, однако, Британия оставалась под угрозой вторжения с севера, рейнский лимес могли прорвать германцы – франки или алеманы, а в Галлии с ее недобитыми багаудами тлели угли жакерии, способные вспыхнуть пламенем в любой момент, – Константин смог употребить для войны с Максенцием лишь около трети находившихся в его власти вооруженных сил – 8 тысяч конницы и 90 тысяч пехоты. Значительное большинство войска составляли включенные в легионы или состоявшие во вспомогательных частях галлы, бритты и германцы – римские граждане и федераты. Ядро кавалерии образовывали особенно преданные императору романизованные иллирийцы, доставшиеся ему от отца.
Армии Константина противостояли численно превосходящие силы противника: преторианский корпус и набранные в Италии легионы, насчитывавшие вместе до 80 тысяч человек, 40 тысяч превосходных воинов, набранных в Африке, в основном из берберов; вместе с крепостными гарнизонами италийских городов получалось более 150 тысяч воинов. Ударной силой Максенция была тяжелая кавалерия клибинариев, которая заимствовала экипировку и тактику у Ирана и своими надежно защищавшими, но чрезмерно тяжелыми доспехами предвосхищала средневековое рыцарство.
Зиму и весну 312 года Константин провел не в своей трирской резиденции, а ближе к театру военных действий – в Кольмаре, занимаясь разработкой стратегии предстоящей войны и проводя военные учения. Летом основные силы сосредоточены были на юго-востоке Галлии, и в сентябре армия во главе со своим полководцем двинулась из Арелата, где находилась штаб-квартира, в сторону Альп. Константин провел ее через перевал в Женеврских отрогах Альп, по дороге, которой не существовало во времена Ганнибала, приблизительно этим же путем вторгшегося из Галлии в Италию на пять столетий раньше.
На итальянском склоне Альп молниеносным штурмом был взят укрепленный город Сузы (Сегуэнсо). Император удержал солдат от привычного грабежа, напомнив им о том, что в Италию они пришли не как завоеватели, но как освободители. От Суз лежал путь на Турин. У стен этого города Константин столкнулся с контратакой прославленных клибинариев, но для встречи с ними он предусмотрительно вооружил своих воинов тяжелыми палицами, обитыми толстыми стальными пластинами, действовать которыми воины обучались заблаговременно, до начала похода. Ими они пробивали доспехи клибинариев и их коней. Не выдержав натиска противника, клибинарии повернули назад, но городские ворота оказались для них запертыми. Так в первый раз обнаружилось ставшее затем вполне очевидным обстоятельство: войска хранили верность Максенцию, но население италийских городов ненавидело его и принимало его противника как освободителя.
После взятия Турина Константин не повел армию кратчайшим путем на юг на Рим, но двинулся на восток по Падуанской долине, чтобы на будущее гарантировать себя от ударов с тыла. Вслед за Турином пали Медиолан, Брешия и Верона. У стен этого города Константин столкнулся с энергичным сопротивлением преданных Максенцию войск, которыми командовал один из самых способных военачальников – префект претория Руриций Помпеян. Битва длилась всю ночь, победа досталась Константину дорогой ценой, но потери противника были ужасающими. Преторианский корпус фактически прекратил свое существование. Оставшиеся в живых были взяты в плен, и, как язвительно писал Я. Буркхард, Константину «пришлось заковать всех пленных воинов Вероны в цепи… Предать их смерти значило поступить несогласно с новоявленными идеалами гуманности и интересами государства, а на слово их, по-видимому, нельзя было положиться; поэтому мечи их перековали на кандалы»[8]. Одна часть армии была оставлена Константином для завершения операции у Вероны, а другая двинулась дальше на восток. Очистив север Италии от гарнизонов Максенция, Константин повел войска на юг мимо Болоньи, через Аримин, затем вдоль Адриатического берега до Фано и оттуда по Фламиниевой дороге на Рим.
Стратегический расчет Максенция заключался в том, чтобы нанести решающий удар по численно уступавшим войскам противника у стен столицы. После гибели своего лучшего полководца Руриция Помпеяна Максенций вынужден был взять командование на себя, хотя он понимал, что как полководец он уступает своему противнику. Альтернативой сражения на подступах к Риму была оборона внутри стен, укрепленных при Аврелиане настолько основательно, что они считались совершенно неприступными, но Максенций не мог положиться на готовность римлян вынести испытания длительной осады, предвидя, что с обострением ситуации с продовольственным снабжением угроза голодной смерти превозможет страх мести со стороны его карателей и Рим восстанет против него. Расчет был на победу над основными силами врага в генеральном сражении, которое решит исход противостояния. До подхода к Риму Константин одерживал одну победу за другой, но до сих пор ему противостояли относительно малочисленные отряды. Исход битвы с превосходящими по численности войсками Максенция представлялся неясным.
И вот тогда, в канун сражения, по версии Лактанция, «во время сна (in quiete) Константин получил вразумление (commonitus est), чтобы он изобразил на щитах небесное знамение Бога (coeleste signum Dei). Константин и сделал так, как ему было открыто: изобразил на щитах монограмму»[9]. Лактанций писал об этом событии год, два или три спустя, не позже 315 года, в сочинении «О смертях гонителей» («De mortibus persecutorum»), так что буквально по самым свежим следам.
Другое свидетельство принадлежит биографу Константина Евсевию Кесарийскому, который вскоре после смерти равноапостольного императора писал о том, что, молясь Богу о даровании ему победы, «василевс получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение, так что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто-то другой. Но нас с клятвой уверял в этом сам победоносный василевс, когда, спустя долго после того, мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы… “Однажды в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, – говорил василевс, – я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста, с надписью: "Сим побеждай!"”. Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. Константин находился, однако же, в недоумении и говорил сам себе: “Что бы значило такое явление?” Но между тем, как он думал и долго размышлял о нем, наступила ночь. Тогда во сне явился ему Христос Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому виденному на небе, употребить его для защиты от нападения врагов. Константин рассказал друзьям свою тайну и потом, созвав мастеров, умевших обращаться с золотом и драгоценными камнями, сел между ними и, описавши образ знамени, приказал в подражание ему сделать такое же из золота и драгоценных камней»[10].
Затем Евсевий подробно описывает вид этого знамени: «Это знамя некогда случалось видеть и нам собственными очами. Оно имело следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста. Сверху на конце копья неподвижно лежал венок из драгоценных камней и золота, а на нем – символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа, обозначавшееся первыми чертами, из середины которых выходило “Р”. Эти буквы василевс впоследствии имел обычай носить и на шлеме. Потом на поперечной рее, прибитой к копью, висел тонкий белый плат – царская ткань, покрытая различными драгоценными камнями и искрившаяся лучами света. Часто вышитый золотом, этот плат казался зрителям невыразимо красивым, вися на рее; он имел одинаковую ширину и длину. На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен, под знаком креста, при самой верхней части описанной ткани, висело сделанное из золота грудное изображение боголюбивого василевса и его детей. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался василевс для преодоления противной и враждебной силы и приказал во всех войсках носить подобное ему»[11].
 Рубенс. Видение императору Константину Реальность этого события – видения креста на небе самим Константином и его войсками и затем явление императору во сне Христа – отвергается многими историками, в том числе обыкновенно и историками Церкви из протестантской среды. По большей части основной мотив тут очевиден – он кроется в предубеждении против самой возможности чуда, а еще для протестантской традиции, не лютеровской, а восходящей к Кальвину, но усвоенной в позднейшие времена едва ли не всем протестантским миром, характерно негативное восприятие самого подвига Константина, не только даровавшего Церкви свободу, но и оказавшего ей покровительство, так что к нему, в конечном счете, восходит византийская симфония священства и царства, вызывающая солидарное отторжение на протестантском и постхристианском Западе.
Рубенс. Видение императору Константину Реальность этого события – видения креста на небе самим Константином и его войсками и затем явление императору во сне Христа – отвергается многими историками, в том числе обыкновенно и историками Церкви из протестантской среды. По большей части основной мотив тут очевиден – он кроется в предубеждении против самой возможности чуда, а еще для протестантской традиции, не лютеровской, а восходящей к Кальвину, но усвоенной в позднейшие времена едва ли не всем протестантским миром, характерно негативное восприятие самого подвига Константина, не только даровавшего Церкви свободу, но и оказавшего ей покровительство, так что к нему, в конечном счете, восходит византийская симфония священства и царства, вызывающая солидарное отторжение на протестантском и постхристианском Западе.
У христианских авторов, принципиально не ставящих под вопрос возможность чуда, тем не менее, обсуждался вопрос о том, имело ли оно место в этом событии или то было лишь, говоря словами В.В. Болотова, «провиденциальной случайностью». «Дело в том, – продолжает историк, – что около солнца видны бывают иногда полосы, принимающие (если это явление – “parhelion”, “ложное солнце” – бывает около полудня) форму креста. Но в такой постановке нам задаваться этим вопросом не приходится. В сущности то и другое представление отделяются лезвием бритвы. Ведь и для чуда не требуется творческого акта: Бог пользуется здесь теми же силами, которые расположены в мировой массе. Чем бы мы ни объяснили этот факт – сверхъестественным ли вмешательством или естественными факторами, дело, в сущности, не изменяется»[12]. По поводу еще одного демагогического аргумента, нацеленного на дискредитацию сообщения Евсевия, – «Бог любви и мира будто бы является в рассказе Евсевия богом войны, поэтому весь рассказ нужно предать забвению и презрению как natuerlich erlogen (очевидно вымышленный. – прот. В.Ц.)», – тот же историк резонно замечает, что «такая критика не заслуживает одного красивого мыльного пузыря»[13].
Между тем слухи о видении широко распространились в разных концах империи, в особенности в Галлии, уроженцами которой была едва ли не большая часть воинов Константина в канун его решительной схватки с Максенцием, в том числе и в языческой среде. Свидетельством тому служат глухие отголоски события, встречающиеся у нехристианских авторов. Так, «осенью 313 года в Галлии оратор Евмений, говоривший похвальное слово Константину, выразился очень неопределенно: “Какой-то бог побудил Константина отправиться в поход как на победу, обещанную уже богом”»[14]. В.В. Болотов ссылается также на речь, произнесенную другим галльским ритором, Назарием, в 321 году. Назарий говорил, что «во всей Галлии рассказывали, что видны были на небе войска, заявлявшие, что они посланы от Бога… Видели, как помощь страшно сияла и щиты, которые воины несли, блестели, а сами они говорили: “Мы идем на помощь Константину”»[15]. Слова Назария воспроизводят лишь слухи, которые распространились в Галлии и шли, несомненно, от воинов Константина, и поскольку среда эта была языческой, действительное событие при передаче из уст в уста претерпело метаморфозу, приобретя характер, совместимый, скорее, с языческими верованиями, чем с христианскими представлениями. Но тем достовернее становится в такой искаженной передаче сам факт события.
К адекватности сообщения о нем Евсевия скептически относится и В.В. Болотов, обнаруживая при этом излишнюю придирчивость. Отечественный историк находит в свидетельстве биографа императора несомненное противоречие с рассказом Лактанция, который ничего не писал о видении креста на небе, но лишь о некоем вразумлении о небесном знамении, которое Константин должен был изобразить на щитах. Болотов не подозревает Евсевия в намеренной дезинформации, но считает, что он «просто не понял рассказа, сообщенного ему Константином. Император не такой собеседник, которого можно интервьюировать и ставить ему вопросы. Он сказал несколько слов, а Евсевий истолковал их по-своему»[16]. Два сообщения – Евсевия и Лактанция – расходятся, но это не значит, что они противоречат друг другу. Лактанций упоминает «небесное знамение Бога» («coeleste signum Dei»), не говоря, в чем оно заключалось. Из Евсевия явствует, что этим знамением был крест. Словам Лактанция это никак не противоречит.
Историки находят противоречие и в том, что, по Лактанцию, знак Божественного знамения был нанесен на щитах, а у Евсевия нет упоминания о щитах. Но у Евсевия ясно сказано, что изготовлено было не только драгоценное символическое изображение, но что василевс не только сам пользовался этим «спасительным знаменем как оборонительным оружием… для преодоления противной и враждебной силы», но и «приказал во всех войсках носить подобное ему» – по Лактанцию, носить его изображенным на щитах.
Конечно, и это место, и весь вообще текст Евсевия, посвященный видению и его изображению, в отличие от рассказа Лактанция, не имеет хронологической привязки. Если исходить из последовательности повествования, то можно заключить, что видение произошло до начала войны с Максенцием, а не перед решающей битвой, а приказ о ношении изображения в войсках относится к неопределенному времени, возможно наступившему уже после одержанной победы. Но в биографии Константина, написанной Евсевием, во многих случаях последовательность изложения не совпадает с хронологической последовательностью самих событий, так что и относительно времени видения нет оснований усматривать противоречия между ним и Лактанцием, который точно указывает на канун генерального сражения как на время «небесного вразумления», в то время как из Евсевия видно только, что видение это относится к войне с Максенцием, а о том, когда оно было, он попросту не пишет, тем более что биографию он писал, когда прошло уже не менее четверти века после сражения с Максенцием, которому предшествовало чудесное вразумление, и со слов самого Константина, услышанных им много позднее самого события. Весть о нем пронеслась по Галлии и Западу, но едва ли она скоро дошла до Палестины, где тогда жил и, возможно, уже занимал епископскую кафедру Евсевий, потому что в армии Константина о выходцах с Востока империи ничего не известно, в отличие от уроженцев западных провинций.
Изображение знамения, которое увидел святой Константин на небе, было названо «лабарум». Этимология этого слова не ясна, по одной из версий оно восходит к языку басков, которым владели многие воины Константина – выходцы из юго-западной Галлии. И значит оно «знамя». О том, почему именно это баскское слово было употреблено для обозначения знамени Константина, не известно.
Историки, в том числе и В.В. Болотов, находят, что достоверность свидетельства Евсевия подрывается тем обстоятельством, что, по нему, «Константин видит крест с надписью и в сонном видении ему является Христос с крестом. А у себя на знамени и на шлемах он воздвигает не крест, а монограмму Христа. Таким образом, он употребляет особый, не явленный ему знак»[17]. Между тем, если внимательнее читать Евсевия, то у него нетрудно обнаружить упоминание и о кресте на знамени: «На прямом копье, которого нижний конец был весьма длинен, под знаком креста… висело сделанное из золота грудное изображение боголюбивого василевса и его детей»[18].
Видение креста стало толчком к обращению Константина. Несмотря на христианское исповедание матери, он не был христианином с детства, но стал им. В какой момент? До известной степени это был постепенный процесс, и все же в нем выделяются особенно важные моменты. И самым значимым из них было видение креста, предшествовавшее дарованной ему победе. Подобная констатация, естественно, отвергается историками, не сочувствующими христианству. Так, один из биографов Константина нового времени, Я. Буркхард, вовсе отказывается считать его сознательным христианином. По его словам, «со стороны императора это – эксперимент, не обязывавший его ни к чему, кроме терпимости, которая и так стала законом во всех его владениях… Он, скорее всего, считал Христа одним из богов, а приверженцы христианской веры для него ничуть не отличались от язычников… Без сомнения, он руководствовался исключительно соображениями успеха; если бы в Италии он столкнулся с неприятием “ХР”, знак бы мгновенно исчез со щитов и знамен»[19]. К самому факту его обращения скептически относятся по большей части и протестантские историки, находя его образ жизни, правительственный и полководческий, сопряженный с пролитием крови, не совместимым с искренним исповеданием Христа. Наивность такого подхода, если его принимать всерьез, при последовательном проведении принципа должна была бы исключить искреннее христианство всех вообще правителей, царей и князей, в «служебные обязанности» которых входит принятие решений, ведущих к кровопролитию. Но скепсис по поводу происшедшей с Константином перемены разделяют также благонамеренные и ответственные историки. Так, В.В. Болотов не склонен преувеличивать значение видения для обращения императора: это было «лишь начальным шагом к христианству… Сверхъестественное событие, в чем бы Константин ни полагал в нем центр тяжести, не могло иметь для него решающего значения… Если он стал на сторону христианства без глубокого религиозного убеждения, то мотивов для этого, очевидно, должно искать в политике»[20]. И в этом утверждении церковный историк вполне сходится с Буркхардом, историком антихристианским.
Биографическое основание для скепсиса относительно обращения Константина после видения креста находят, естественно, в том, что крещение он отлагал до конца своей жизни и принял его уже на смертном одре от епископа-арианина Евсевия Никомидийского. Распространенная в католической среде версия о крещении Константина святым епископом Сильвестром, совершенном над ним намного раньше, давно уже никем не принимается всерьез. Между тем хорошо известно, что подобное отлагательство крещения представляло собой не исключение, но норму в жизни христиан Древней Церкви. Святой Амвросий, известный своей преданностью Церкви, был избран епископом Медиоланским, когда он еще не был крещен. Аналогичный хрестоматийный случай относится к избранию Нектария епископом столичного города – Нового Рима. Тем более обычным было длительное отлагательство крещения обращенным и сознательным христианином во времена Константина, предшествовавшие эпохе Феодосия Великого, когда подвизались святители Амвросий и Нектарий, более чем на полувека. Это, однако, не значит, что Константин оставался вне Церкви до смертного одра. Оглашение в те времена почти во всех случаях совершалось не сразу перед крещением, как это делается ныне, но часто предшествовало крещению не месяцами, а годами и десятилетиями, как это и имело место в случае Константина.
 Святой равноапостольный Константин. Фреска Эммануила Панселина в храме Протата на святой Горе Афон Странным образом его биографы как будто не замечают помещенную сразу после рассказа о видении креста главу, озаглавленную так: «О том, как Константин, будучи оглашен, читал Божественное Писание», которая, если доверять ее достоверности, ставит, что называется, точку над i в вопросе о времени его обращения: «В описываемое же время, пораженный дивным видением и решившись не чтить никакого другого Бога, кроме виденного, Константин призвал к себе таинников (мистас) Его слова и спросил их, Кто тот Бог и какой смысл знамения, которое он видел? Они отвечали, что тот Бог есть единородный Сын одного и единственного Бога, а явившееся знамение – символ бессмертия и торжественный знак победы над смертью, которую одержал Он, когда приходил на землю. Потом, подробно раскрыв учение о вочеловечении, они объяснили Константину и причины Его пришествия. Константин, хотя и вразумлялся их словами, однако же, тем не менее, имел перед очами чудо дарованного ему богоявления и, сравнивая небесное видение со словесным объяснением, утверждался в своих мыслях. Он был убежден, что знание сих предметов посылается ему свыше, и даже сам начал заниматься чтением Божественных Писаний. Сверх сего, повелел находиться при себе Божиим иереям с той мыслью, что виденного Бога должно чтить всеми способами служения»[21].
Святой равноапостольный Константин. Фреска Эммануила Панселина в храме Протата на святой Горе Афон Странным образом его биографы как будто не замечают помещенную сразу после рассказа о видении креста главу, озаглавленную так: «О том, как Константин, будучи оглашен, читал Божественное Писание», которая, если доверять ее достоверности, ставит, что называется, точку над i в вопросе о времени его обращения: «В описываемое же время, пораженный дивным видением и решившись не чтить никакого другого Бога, кроме виденного, Константин призвал к себе таинников (мистас) Его слова и спросил их, Кто тот Бог и какой смысл знамения, которое он видел? Они отвечали, что тот Бог есть единородный Сын одного и единственного Бога, а явившееся знамение – символ бессмертия и торжественный знак победы над смертью, которую одержал Он, когда приходил на землю. Потом, подробно раскрыв учение о вочеловечении, они объяснили Константину и причины Его пришествия. Константин, хотя и вразумлялся их словами, однако же, тем не менее, имел перед очами чудо дарованного ему богоявления и, сравнивая небесное видение со словесным объяснением, утверждался в своих мыслях. Он был убежден, что знание сих предметов посылается ему свыше, и даже сам начал заниматься чтением Божественных Писаний. Сверх сего, повелел находиться при себе Божиим иереям с той мыслью, что виденного Бога должно чтить всеми способами служения»[21].
С этого момента святой Константин стал христианином, а если в своих последующих государственных деяниях он не всегда обнаруживал это с исчерпывающей ясностью, то причиной этого и были политические расчеты, стремление не оттолкнуть от себя своих языческих подданных, которые до конца его жизни все еще составляли большинство в населении империи. Именно поэтому не выдерживает критики противоположная позиция – попытка представить само его христианство плодом политического расчета. Для такого расчета не было тогда резонов. Доля христиан в империи по разным подсчетам составляла от 5 до 20%. Одна десятая населения будет, вероятно, наиболее реалистичной оценкой. Лишь в самых христианизированных провинциях Азии число христиан могло приближаться к половине их населения. На западе, представлявшем собой главную опору Константина в его противостоянии с соперниками, христиан было многократно меньше; в Британии, очевидно, они не составляли и 1% от населения страны.
Константин стал христианином после того, как удостоился видения свыше. Но кем был он по своим религиозным верованиям до обращения? Евсевий определенно не считает его и в тот момент язычником. Он сближает или прямо отождествляет его религиозные убеждения с теми, которые разделял его отец Констанций Хлор. Вступив в войну с Максенцием, он «стал думать, какого бога призвать бы себе на помощь. При решении сего вопроса ему пришло на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив свою надежду на многих богов и служа им жертвами и дарами… бывали обманываемы льстивыми оракулами, обольщались благоприятными предсказаниями и оканчивали свое дело неблагоприятно… Только отец его шел путем, тому противным. Видя их заблуждение и во всю свою жизнь чтя единого верховного Бога всяческих, он находил в Нем спасителя своего царства… Константин различал это сам про себя… Бог отца его давал ему чувствовать разительные и весьма многие доказательства своей силы… Он почитал безумием попусту держаться богов несуществующих и, после стольких доказательств, оставаться в заблуждении, а потому убедился, что должно чтить Бога отеческого»[22].
Отец Константина, как и многие другие офицеры и генералы римской армии, как некоторые из императоров, особенно иллирийского происхождения, был митраистом, почитателем Sol invictus (Непобедимого солнца). Евсевий определенно отличает верования Констанция от языческих, отождествляя их, возможно не без натяжки, с единобожием. Святой Константин и после обращения в ряде своих актов, очевидно по политическим соображениям, сближал чтимого им Бога с солнцем. Для христианина солнце было, конечно, лишь образом; в конце концов, Христа Спасителя мы именуем также и «Солнцем правды». Но ведь и митраисты не были в своих верованиях наивными натуралистами, и для них солнце все-таки являлось символом Высших Сил. Константину, со свойственным ему трезвым, расчетливым и прагматическим отношением ко всему, а особенно к делам правления, допустимость сближения веры его отца-митраиста, которая разделялась многими солдатами и офицерами, с христианством казалась удобным обстоятельством, позволявшим не отталкивать преданных ему воинов, не ставших еще христианами, но одновременно удобным и в миссионерских целях, потому что помогало многим из них принять веру во Христа без особенно драматических переживаний и внутреннего надлома. Возможно, что с чисто религиозной точки зрения это и не самый надежный способ обращения, но что было, то было – такова история. После Константина и вслед за Константином граждане и жители империи становились христианами иначе, чем во времена гонений.
28 октября 312 года армии Константина и Максенция вышли навстречу друг другу на равнине у Красных скал, там, где в Тибр впадают две речки – Кремера и Аллия, между городами Вейи и Фидены, примерно в 15 километрах от Рима. Максенций вынужден был вывести войска за стены столицы, потому что, лишенный поддержки римлян, он не мог рассчитывать на их стойкость и верность в случае длительной осады. Численное превосходство было на его стороне, но армия Константина обладала большим опытом, и во главе ее стоял лучший полководец своего времени. И самое важное: таинственное видение вселило в сердца его воинов уверенность в победе.
По приказанию Максенция, на правом фланге была поставлена легкая африканская кавалерия, на левом – тяжелая конница, а в центре – чрезмерно вытянутая, выстроенная почти в одну линию, лишенная глубины италийская пехота с ядром из преторианцев. В тылу у Максенция текли мутные воды Тибра. Авангард войска Константина составляла конница, которой командовал он сам. Она вступила в схватку с марша, двигаясь из Фалерий, сразу обрушив удар по тяжелой кавалерии противника. Африканская конница стремительным броском попыталась зайти в тыл войскам Константина и зажать их в клещи, но удар наступавшей кавалерии Константина прорвал боевые ряды противника. Всадники Максенция отступили, и вскоре это отступление превратилось в паническое бегство. На противоположном фланге воины Константина остановили африканскую конницу и отбросили ее на берег Тибра. Оказавшись без защиты с флангов, пехота Максенция дрогнула и обратилась в бегство. Мужественно оборонялись лишь преторианцы, и почти все они пали от мечей противника. Разбитые войска, отступая, сгрудились у Мульвиева моста через Тибр и затем бросились на этот мост, который не был рассчитан на подобную нагрузку. На мосту находился и Максенций. Мост рухнул, и воды Тибра поглотили сорвавшихся с него воинов, в том числе и Максенция.
По приказу Константина, труп Максенция был после долгих и тщательных поисков обнаружен и извлечен из пучины. Отрубленную голову тирана на следующий день после одержанной победы, когда устроен был триумф, несли по Риму водруженной на острие копья, а затем она была отправлена в Африку, чтобы убедить местную администрацию как можно скорее подчиниться победителю Константину. Имя Максенция незамедлительно было изглажено из надписей на монументах. Рим приветствовал Константина как освободителя от тирании. Примеру столицы последовали вся Италия, Испания и Африка. У императора не было надобности искоренять оппозицию в самом Риме. Репрессии ограничились казнями ближайших родственников Максенция и нескольких его сторонников, остававшихся верными ему до конца.
Сенат выразил благодарность Константину за дарованную Риму свободу, признал его первым августом и оказал ему традиционные почести: провозгласил его «верховным первосвященником» («pontifex maximus»), постановил воздвигнуть в его честь триумфальную арку. При этом из деликатности к религиозным убеждениям императора, о которых у сенаторов сложилось, вероятно, адекватное представление, надпись на ней не содержала упоминания имени Юпитера, как это делалось в прошлом. Надпись гласила: «Императору Цезарю Флавию Константину, который по внушению Божества (instinctu divinitatis) и по причине превосходства своего духа отмстил за государство в справедливой войне против тирана и всех его сторонников». И все же арка была украшена изображениями языческих жертвоприношений Марсу, Аполлону, Сильвану и Диане. Воздвигалась она наспех, и, как писал Я. Буркхард, при ее сооружении «воспользовались изящными фрагментами арки Траяна. Возможно, знали, что Константин иногда называл Траяна “стенным лишаем” из-за множества надписей, увековечивших его память; тем меньше колебались, строя памятник из Траяновых камней»[23].
Кроме того, как известно из Евсевия Кесарийского, «на самом людном месте Рима поставили ему статую», и уже сам он приказал «высокое копье в виде креста утвердить в руке своего изображения и начертать на латинском языке слово в слово следующую надпись: “Этим спасительным знамением, истинным доказательством мужества, я спас и освободил ваш город от ига тирана и, по освобождении его, возвратил римскому сенату и народу прежние блеск и славу»[24]. Воздав этим монументом и надписью благодарность Христу Спасителю за дарованную ему победу, Константин, щадя религиозную совесть римских язычников, в том числе и сенаторов, среди которых если и обретались христиане, то в самом ничтожном числе, оставил для них возможность подразумевать под «спасительным знамением» само копье, а не изображаемый им крест. В римской базилике, сооруженной при Максенции, срочно переименованной после его гибели, но в исторической топографии снова носящей его имя, была помещена статуя Константина колоссальных размеров, от которой уцелела лишь голова, хранящаяся ныне в Капитолийском музее.
Константин, со своей стороны, заняв в сенате место принцепса, выразил признательность и уважение этому древнему учреждению, пообещав сохранить за ним роль высшего государственного совета, призванного участвовать в подготовке проектов всех важных решений и законов. Тем самым император обозначил исконное место сената в системе правительственных учреждений, которое он занял вновь с введением принципата, поскольку всевластие сената в эпоху классической республики представляло собой узурпацию. Сенаторы, давно уже отученные от ностальгических воспоминаний о прежнем величии своей корпорации, искренне радовались великодушию, которое явил им Константин. По душе пришлось им и совершенное упразднение преторианского корпуса, созданного как орудие устрашения всякой оппозиции императорской власти, в особенности со стороны сената, но со временем ставшего инструментом государственных переворотов, свержения одних императоров и поставления других.
С особым ликованием приветствовали Константина римские христиане. В Риме он часто встречался с епископами италийских городов и римскими клириками, обсуждая с ними церковные дела. По словам Евсевия, «василевс выражал им свою услужливость и отличное уважение и смиренномудрствовал перед ними словом и делом как перед мужами, посвященными Богу. Эти мужи, по своей одежде казавшиеся ничтожными, но не так воспринимаемые Константином, разделяли с ним трапезу, потому что в человеке он смотрел не на человека, которого видят многие, а на Бога. Равным образом, куда бы сам ни шел, брал и их собой в том убеждении, что Бог, Которому они служат, по крайней мере за это будет к нему милостив. Мало того, своими богатствами помогал он и церквям Божиим, то расширяя и возводя выше молитвенные дома, то весьма многими приношениями украшая святые алтари»[25]. За счет фиска в Риме начато было строительство Латеранской базилики. По праву первого августа святой Константин потребовал от Максимина Дазы ввести в действие на контролируемой им территории эдикт своего дяди Галерия о веротерпимости и прекратить гонения христиан, и враг Церкви вынужден был хотя бы формально выполнить это указание.
Власть Константина после устранения Максенция распространилась, кроме Британии, Галлии и Германии, которыми он владел раньше, на Италию, Испанию и Африку. Центральноевропейский регион и Балканы находились под контролем его политического союзника Лициния, в то время как самая населенная и богатая часть империи – азиатские провинции, Египет и Ливия – оставались в руках Максимина Дазы.
Миланский эдикт
 Памятник императору Константину в Милане Пробыв в Риме несколько месяцев, Константин отправился в Медиолан для встречи с Лицинием, на которой предстояло отпраздновать бракосочетание Лициния с сестрой Константина Констанцией, ранее уже помолвленными, и обсудить дальнейшие шаги по консолидации империи. Встреча состоялась в феврале 313 года. На совещании в Медиолане обсуждались вопросы о территориальном размежевании власти августов, о титуле Максимина (который не довольствовался званием цезаря, отверг дарованный ему его дядей Галерием и им же изобретенный титул сына августа (filius augusti) и в своих актах именовал себя августом – фактически Константин и Лициний в Медиолане обсуждали план совместных акций против него, о содержании которого можно лишь отчасти судить по последующим событиям, поскольку Максимин первым вступил в борьбу) и, наконец, о юридическом статусе христианских общин в империи и об основных принципах религиозной политики. Лициний признал фактически сложившееся после устранения Максенция положение дел с распределением провинций между ним и Константином, иными словами, отказался от претензий на Италию и Африку, а по поводу принадлежности Испании Константину не могло быть никаких разногласий уже в силу ее географического положения на крайнем западе Европы.
Памятник императору Константину в Милане Пробыв в Риме несколько месяцев, Константин отправился в Медиолан для встречи с Лицинием, на которой предстояло отпраздновать бракосочетание Лициния с сестрой Константина Констанцией, ранее уже помолвленными, и обсудить дальнейшие шаги по консолидации империи. Встреча состоялась в феврале 313 года. На совещании в Медиолане обсуждались вопросы о территориальном размежевании власти августов, о титуле Максимина (который не довольствовался званием цезаря, отверг дарованный ему его дядей Галерием и им же изобретенный титул сына августа (filius augusti) и в своих актах именовал себя августом – фактически Константин и Лициний в Медиолане обсуждали план совместных акций против него, о содержании которого можно лишь отчасти судить по последующим событиям, поскольку Максимин первым вступил в борьбу) и, наконец, о юридическом статусе христианских общин в империи и об основных принципах религиозной политики. Лициний признал фактически сложившееся после устранения Максенция положение дел с распределением провинций между ним и Константином, иными словами, отказался от претензий на Италию и Африку, а по поводу принадлежности Испании Константину не могло быть никаких разногласий уже в силу ее географического положения на крайнем западе Европы.
Важнейший результат встречи – знаменитый Миланский эдикт, изданный от имени двух августов, но, разумеется, по инициативе Константина и, очевидно, в его редакции. Миланскому эдикту 313 года, как известно, предшествовали два других акта, которыми легализованы были христианские общины: эдикт от 30 апреля 311 года, изданный гонителем христиан Галерием совместно с Константином и Лицинием, и эдикт 312 года, изданный в Риме или также в Милане от имени также двух августов, – до нас он не дошел, и о факте его издания известно только по императорскому рескрипту на имя презида Никомидии, а о его содержании приходится судить уже по эдикту 313 года.
Текст Миланского эдикта помещен в латинском подлиннике в книге Лактанция «О смертях гонителей» и в переводе на греческий язык в «Церковной истории» Евсевия. Эдикт начинается со ссылки на изданный ранее акт о веротерпимости, который признается несовершенным: «С давних пор считая, что не следует стеснять свободу богопочитания, но, напротив, надо предоставить уму и воле каждого заниматься божественными предметами по собственному выбору, мы издали повеление как всем другим, так и христианам хранить свою веру и свое богопочитание. Но так как в указе, содержавшем это разрешение, были упомянуты неопределенно многие и различные вероисповедания, то, возможно, некоторые вскоре лишились возможности хранить свою веру. Когда же я, Константин август, и я, Лициний август, благополучно прибыли в Медиолан и обсуждали все, что относится к общей пользе и благополучию, то среди прочего, что сочли мы во многом полезным для всех, решили прежде всего издать постановление, которое поддерживало бы страх Божий и благоговение, то есть даровать и христианам, и всем свободно, по своему собственному желанию, выбирать веру, дабы небесное Божество, как бы Его ни называли, относилось благосклонно и к нам, и к подданным нашим»[26]. Хотя в апелляции к Божеству здесь нет прямых христианских коннотаций, но употребленная формула имеет явно выраженное монотеистическое звучание и плохо совместима с официальным римским пантеизмом.
В отличие от изданного в 311 году эдикта Галерия, Миланский эдикт провозглашает принцип, идущий дальше самой широкой веротерпимости. Он дарует римским гражданам и подданным полную религиозную свободу: «Руководствуясь здравым и правым смыслом, мы объявляем следующее наше решение: никому не запрещается свободно избирать и соблюдать христианскую веру, и каждому даруется свобода обратить свою мысль к той вере, которая, по его мнению, ему подходит, дабы Божество ниспосылало нам во всех случаях скорую помощь и всякое благо»[27]. Затем в эдикте отменяются и дезавуируются ранее изданные акты, касающиеся христиан: «Угодно нам совершенно отменить посланные прежде твоему благочестию (как и другие эдикты, Миланский адресован был президам провинций. – прот. В.Ц.) распоряжения относительно христиан, весьма нелепые и несовместимые с нашей кротостью. Отныне всякий, свободно и просто выбравший христианскую веру, может соблюдать ее без какой бы то ни было помехи. Мы даровали христианам полное право совершать богослужение»[28]. Предоставленная христианам свобода вероисповедания не нарушала, однако, принципа юридического равноправия религий: «Поскольку же им даруется неограниченная свобода, то твоей чести должно быть понятно, что дается свобода и другим по желанию соблюдать свою веру, что и соответствует нашему мирному времени: пусть каждый свободно, по своему желанию избирает себе веру. Так определено нами, дабы не казалось, будто мы умаляем достоинство какой-либо веры»[29].
Существенную часть эдикта 313 года составляет регулирование имущественных прав христианских общин, именно христианских, поскольку только они подвергались ранее гонениям и конфискации храмов: «Если места, в которых они раньше собирались… куплены у нашей казны или у кого-либо, то пусть их вернут христианам безвозмездно, без возврата заплаченной за них суммы, немедленно и беспрекословно. Равным образом получившие такие места в дар должны немедленно вернуть их христианам. И если купившие эти места или получившие их в дар хотят просить за них от нашей доброты вознаграждения, то пусть обратятся в суд к нашему правителю, и наша милость не оставит их просьбы без внимания… И так как христианам принадлежали не только те места, где они обычно собирались, но и другие, составлявшие собственность не только частных лиц, а целого общества, то, согласно закону, только что нами изложенному, ты распорядишься без всякого промедления вернуть их христианам, то есть всему их обществу и каждому собранию, соблюдая, конечно, и упомянутое указание о том, чтобы вернувшие те места безвозмездно рассчитывали на вознаграждение от нашей доброты»[30]. Таким образом, христианам возвращались отнятые у них храмы и иное их имущество, как находившееся в частной собственности, так и во владении общин, возвращалось немедленно, а те лица, которые добросовестно приобрели впоследствии это имущество, могли просить о возмещении убытка по суду из казны.
Миланский эдикт вошел в мировую историю как один из важнейших актов. По существу дела, его изданием проведена была граница между эпохами – историей языческого Рима и историей христианского Рима и христианской Европы. По своему юридическому содержанию он был актом о религиозной свободе и религиозном равноправии, нисколько не ущемлявшим права язычников или иудеев. Святой Константин не сделал христианство господствующей религией, но, с другой стороны, поскольку сам он стал христианином, это не могло не сказаться в дальнейшем на его религиозной политике, во всякого рода привилегиях частного характера, которые предоставлялись им христианской Церкви. Этот процесс повышения юридического статуса Церкви шаг за шагом, хотя и не без рецидивов, продолжавшийся и при преемниках Константина, завершился при Феодосии Великом, когда юридический разрыв империи с язычеством был проведен последовательно и радикально. С этих пор во взаимоотношениях Церкви и империи выработалась система, позже, уже при Юстиниане, официально названная симфонией священства и царства. Но начало процессу, приведшему к установлению симфонии, составляющей самую суть той христианской римской цивилизации, которая в позднейшие времена была неудачно названа византийской, положено было Миланским эдиктом.
Святой Константин на пути к единовластию
Для участия во встрече августов в Медиолан приглашался и давно уже отрекшийся от власти и поселившийся в Салоне, вблизи родных мест, Диоклетиан. Формально его пригласили на торжество бракосочетания Лициния и Констанции, но при этом предполагалось, вероятно, что он, в свое время явившийся инициатором гонений против христиан, подпишет эдикт о религиозной свободе и тем придаст ему особую легитимность. Диоклетиан, однако, не принял приглашения, сославшись на старческие немощи и трудности дальнего зимнего пути. В ответ императоры направили ему письмо, в котором обвинили его в поддержке, которую он оказывал Максенцию. В год издания Миланского эдикта Диоклетиан умер. Возникли подозрения, что это была добровольная смерть, что бывший император принял яд или уморил себя голодом. В иной мир Диоклетиана, по постановлению сената, проводили с почестями. Константин, очевидно, не возражал против этого решения. Хотя в историю Диоклетиан вошел как один из главных гонителей Церкви, но император, даровавший ей свободу и сам ставший христианином, через своего отца Констанция был все же его преемником. Тетрархия в том виде, в котором ее задумал Диоклетиан, провалилась, но многие из предпринятых им реформ государственного управления, военного строительства, налоговой и финансовой политики легли в основу той системы администрации и государственного строя, которая сложилась в империи при Константине.
Совещание августов и праздничные торжества в Медиолане были прерваны, когда пришло известие о мятеже Максимина Дазы. Опираясь на ресурсы подчиненных ему богатых провинций Востока и Египта, он попытался побороться за верховную власть, по меньшей мере добиться пересмотра сложившихся к тому времени внутриимперских границ в свою пользу и за счет Лициния. Было еще одно обстоятельство, которое могло подтолкнуть его к внезапному выступлению. Прямые репрессии против христиан он приостановил, но Миланский эдикт предусматривал восстановление разрушенных христианских храмов на средства казны, а самые большие потери Церковь понесла на Востоке: в Азии, Понте, Сирии и Египте – самых христианизированных регионах империи, находившихся под его управлением, – таким образом, выполняя Миланский эдикт, Даза должен был потратить немалые средства на помощь тем, кого он продолжал считать своими врагами. Из числа гонителей он был самым остервенелым, а возле себя держал ораву жрецов, магов, гадателей и прорицателей, которые сулили ему победу над врагами. Один из них, Феотекн, потребовал от Максимина, чтобы он изгнал из своих владений всех христиан. Характеризуя этого правителя, Дж. Бейкер писал не без сарказма, что это был «человек, полностью находившийся во власти своей собственной веры в знамения и предзнаменования, не способный даже есть или дышать, пока он не получит ответ высших сил, следует ему это делать или нет. Однако его религия не налагала на него никаких ограничений в смысле увлечения вином или женщинами. Он мог в пьяном виде подписывать указы и отменять их, протрезвев. Его пиры славились по всей провинции: гостями его обычно были продажные, купавшиеся в роскоши чиновники, которых он использовал и защищал. Что касается женщин, то здесь он вел себя как ему заблагорассудится. И никто, кроме христиан, не осмеливался критиковать его»[31].
В Медиолане узнали, что Максимин, выступив с армией из Никомидии, где находилась его резиденция, стремительно форсировал Босфор, штурмом взял Византий и осадил Ираклий. Константин заверил Лициния в своей поддержке и отправился на рейнскую границу, чтобы там вести войну с франками, в очередной раз прорвавшими лимес. Лициний срочно отправился на Балканы, перебрался через Альпийский перевал и прибыл в Наисс – родной город Константина. Тем временем Максимин взял Ираклий, но осада этого города заняла время, понадобившееся Лицинию для набора войск. Хотя у Максимина Дазы имелось двойное превосходство в численности армии, но иллирийцы Лициния отличались превосходной воинской выучкой, боевым опытом, храбростью и преданностью своему полководцу-земляку, в отличие от азиатов Максимина. Сражение между противниками состоялось вблизи Адрианополя. Многочисленная армия Максимина была наголову разбита, а сам он с отрядом своих телохранителей бежал, остановившись уже только в киликийском Тарсе. Он попытался набрать новую армию, но вскоре убедился в тщете своей надежды на реванш. Его враг водворился в Никомидии, отпраздновал там триумф, и 13 июня там официально оглашен был Миланский эдикт.
Максимин окончил свою жизнь в Тарсе, не переступив порог сорокалетия. По одной из версий, которую находим у Евсевия Кесарийского, Максимин был поражен молнией, после чего прожил еще некоторое время, перед смертью раскаявшись, подобно своему дяде Галерию, в преследовании христиан: «Почитая свою жизнь, наконец, вне опасности, он вдруг поражен был огненной стрелой Божией и лежал лицом вниз. Тело его посланным от Бога ударом было истощено, так что все черты прежнего его образа исчезли и из него остался только походивший на привидение скелет сухих костей. Когда же мышца Божия отяготила его еще сильнее, глаза у него выкатились и, выйдя из своих мест, оставили его слепым… Впрочем, и после такого поражения тиран еще дышал и хоть поздно, однако же исповедовался перед христианским Богом, признавался в своем богоборчестве и… переменив образ мыслей, в законах и указах письменно высказал свое заблуждение касательно чтимых им прежде богов и в собственном опыте находил убеждение, что истинный Бог есть только Бог христианский»[32]. По Лактанцию, Максимин покончил с собой: «Он принял яд… который сжигал его внутренности, так что от боли он потерял рассудок. Во время такого приступа, который продолжался четыре дня, он голыми руками рыл землю, брал ее в рот и жадно глотал ее. В страшных мучениях он бился головой о стену; глаза его выступили из орбит… В конце концов он познал свою вину и молил Христа о милосердии. Стеная, как тот, чье живое еще тело горит, он испустил свою отягощенную грехами душу, претерпев ужасную смерть»[33].
Одолев противника, Лициний стал мстить его близким. Жертвой отмщения пали все близкие родственники Максимина Дазы и его дяди Галерия, включая детей – малолетних сыновей Максимина, сына Галерия Кандидиана и сына Севера. В Фессалониках были схвачены вдова Галерия Валерия и ее мать Приска, бывшая супругой Диоклетиана, который в то время был еще жив. Обе женщины были казнены мечом. Лициний явным образом выкорчевывал конкурирующих династов, его нетрудно было заподозрить в стремлении к единоличной власти. Овладев азиатской половиной империи, Египтом и Ливией и сохранив за собой власть над Иллириком, он теперь контролировал территории, население которых превосходило ту часть империи, которой владел Константин.
Прошло несколько месяцев после поражения и гибели Максимина Дазы, и империя вступила в новый раунд гражданской войны. Прологом к ней послужило предложение Константина о новой ревизии внутренних границ, а именно о выделении третьей области, которую должны были составить Италия и балканские провинции. Лициний вынужден был согласиться с этим проектом. Соправителем августов стал Вассиан, военачальник, женатый на сестре Константина Анастасии и удостоенный звания цезаря. Это назначение оказалось неудачным. Неизвестно, по какой именно причине, но Вассиан оказался вовлечен в заговор против своего тестя. Возможно, он был недоволен тем, что его не удостоили титула августа, который бы поставил его в равное положение с двумя другими правителями, или тем, что Константин не спешил с передачей провинций в его подчинение. Причиной его недовольства могли быть и внутрисемейные отношения. В тайные сношения с ним вступил Лициний. Связующим звеном интриги стал его родной брат Сенеций, оказавшийся клевретом Лициния. Именно он предложил Вассиану организовать заговор и свергнуть Константина, пообещав ему поддержку Лициния. Заговор был открыт, и Вассиан вместе со своими вовлеченными в интригу и схваченными сторонниками незамедлительно казнен, но один из главных обвиняемых, Сенеций, успел бежать к Лицинию. Константин потребовал его выдачи – Лициний отверг это требование. Война между августами стала неизбежной, тем более что обе стороны в ходе ее надеялись окончательно решить вопрос о верховной власти в империи, которая обоими мыслилась уже как монархическая. Прямым запалом к ней послужил приказ Лициния низвергнуть статуи Константина, находившиеся в Эмоне (современной Любляне), расположенной у самых границ Италии.
Летом 314 года Константин двинулся из Галлии во главе армии численностью в 25 тысяч человек – как и в прошлых его войнах, это были в основном бритты, галлы и германцы. Навстречу ему Лициний вел 35-тысячное войско, состоявшее почти исключительно из иллирийцев. Противники встретились вблизи Сирмия (Сремской Митровицы). Сражение состоялось ранним утром 8 октября у деревни Кибалы, расположенной в долине Савы. Иллирийцы сражались стойко, но несли тяжелые потери. Германская и галльская кавалерия, действовавшая под прямым командованием Константина, в конце концов смяла их передовые ряды. Лициний приказал отступить. Потери его были грандиозными: на поле битвы пало больше половины его воинов.
Остатки разбитой армии Лициний повел через Сирмий, Наисс и Сардику (Софию) во Фракию. Туда же по его приказу были стянуты отряды, расквартированные в Мезии и Македонии. В канун решающего сражения он удостоил своего лучшего полководца Валента титулом цезаря. Местом новой битвы стала равнина возле Мардии, на подступах к Адрианополю. И на этот раз иллирийцы упорно сопротивлялись. Как пишет Дж. Бейкер, «больше века иллирийская армия и иллирийские командующие правили империей. И они вовсе не собирались упустить власть из рук. Однако в разгар схватки Константину удалось смять ряды противника. Иллирийцы попросту стали спиной к спине и продолжали сражаться до тех пор, пока не сгустились сумерки. На рассвете оказалось, что они отступили к Македонским горам, что было равносильно признанию поражения»[34].
Лициний направил к Константину делегацию для переговоров. Константин согласился вести их. В качестве предварительного условия он, однако, потребовал устранить Валента. Лициний принял это требование, приказав своему боевому товарищу покончить с собой, и тот, как верный солдат, выполнил приказ. Затем уже состоялась встреча между самими августами. Признав вину за начало военных действий против первого августа, Лициний уступил Константину балканские провинции, за исключением Фракийского диоцеза. Договорились также о том, что Константин, как первый август, может назначить двух цезарей, а Лициний – одного.
Во исполнение этой договоренности в 317 году Константин возвел в цезари своего сына от первой жены Минервины Криспа, которому шел 15-й год, и старшего сына от Фаусты – младенца, носившего имя отца. В свою очередь Лициний удостоил титула цезаря другого ребенка – собственного сына Лициниана. После победы над Лицинием резиденцией Константина стал Сирмий, но в 318 году он перенес свою штаб-квартиру поближе к владениям соправителя – в Сардику, что, естественно, вызвало опасения у Лициния.
Миланский эдикт издан был обоими августами, и он устанавливал один и тот же правовой режим для христианских Церквей и других религиозных общин в империи, но реальная религиозная политика зависела от личных убеждений правителей. Приверженность святого Константина христианству была широко известна и на Западе, находившемся в его владении, и на Востоке, где число христиан было значительно большим, но который пребывал во власти Лициния, остававшегося язычником. И это не могло не влиять на отношение христиан, христианского клира и епископов к тому и другому императорам. Лициний не мог не замечать своей непопулярности в христианской среде, питавшей его подозрительность. Подобно низвергнутому им Максимину, и он все больше склонялся к тому, чтобы опереться на те элементы, которые крепко держались за языческие верования и стремились к реваншу, к восстановлению былой монополии политеистического культа. Как это было в самом начале гонений Диоклетиана, Лициний удалил христиан из своего дворца, увольнял чиновников, исповедовавших Христа, изгонял христиан из армии, подвергая при этом их имущество конфискации. На отмену изданного им же вместе с Константином эдикта он не отважился, но в конце концов дело дошло до прямого притеснения христиан. Характеризуя религиозную политику Лициния, древний церковный историк Сократ Схоластик писал: «Лициний, быв напитан мнениями языческими, ненавидел христиан, и если, боясь Константина, не смел воздвигнуть на них явного гонения, за то многим строил козни тайно. Иногда решался он наносить им вред и открыто, но то были гонения местные… Он поставил закон, чтобы епископы не сближались с эллинами и чрез то не представляли повода к распространению христианства»[35]. Помимо мер, направленных на пресечение христианской миссии, Лициний, опасаясь заговоров против себя со стороны епископов, запретил им проводить соборы и посещать друг друга. Евсевий Кесарийский, в ту пору сам бывший епископом в подвластной Лицинию Палестине, так комментировал этот запрет и его последствия: «Это служило ему поводом к нападению на нас: ибо если мы нарушим закон, то надобно будет подвергнуть нас наказанию, а когда захотим повиноваться указу, то ослабим постановления Церкви, потому что споры особенной важности не иначе могут примиряться, как соборно»[36].
Изобретая самые вычурные способы притеснения христиан, Лициний издавал акты, граничившие с абсурдом: «Он издал… закон, запрещавший мужчинам, при возношении молитв к Богу, находиться вместе с женщинами, а женщинам посещать досточтимые училища добродетели. Запрещалось также епископам преподавать женщинам учение о богопочтении, и требовалось, чтобы для наставления женщин избирались бы женщины (как видим, у современного протестантского феминизма давняя традиция. – прот. В.Ц.). Между тем как этому все смеялись, он для разрушения Церквей выдумал и еще нечто: приказал обычные собрания народа делать за городскими воротами, на открытом месте, под тем предлогом, что воздух вне города вообще гораздо чище, нежели в городских молельнях»[37]. Лициний изощрялся в изобретении предлогов для притеснения христиан, потому что боялся бросить открытый вызов Константину. Тем не менее, в некоторых провинциях дело дошло до прямых репрессий. Как пишет Евсевий, «концом… его безумия было вооружение против Церквей и нападение на епископов, в которых видел он особенное сопротивление. Друзей великого и боголюбивого василевса он считал своими врагами. Посему, лишившись ума, изощрял гнев преимущественно на нас»[38]. В Амасии и других городах Понтийской провинции одни церкви были разрушены, а другие заперты, а предстоятель Амасийской Церкви священномученик Василий казнен. Епископ Севастийский священномученик Власий был по приказанию местного презида Агриколая, желавшего угодить Лицинию, подвергнут истязаниям и затем обезглавлен. Жертвой гонителя пал святой великомученик Феодор Стратилат, до начала Лициниевых гонений командовавший гарнизоном в Гераклее.
Император Константин не мог оставаться безучастным наблюдателем происходившего на востоке империи, оставленном им во власти своего соправителя. Война между августами становилась неизбежной. По свидетельству Евсевия Кесарийского, Константин выступил против Лициния как защитник своих единоверцев-христиан: «Константин принял мудрое решение и, к врожденному человеколюбию присоединив твердость характера, поспешил на помощь угнетаемым»[39].
Современнику очередной гражданской войны и в позднейшие годы собеседнику равноапостольного императора Евсевию были хорошо известны ее действительные причины. Но прямым поводом к войне послужили события, разворачивавшиеся на дунайской границе. Перебравшись через Дунай в его нижнем течении, в империю дважды – в 319 и 322 годах – вторгались готы и сарматы. В обоих случаях нападения были отражены войсками, действовавшими под командованием Константина; затем последовали карательные экспедиции вглубь вражеской страны. Во время этих операций подчиненные Константину отряды входили на территорию Фракийского диоцеза – единственного в Европе, оставленного под властью Лициния. Демонстрируя недовольство посягательством на свои права, Лициний распорядился запретить обращение в своей части империи монеты, выпущенной в честь победы над готами и сарматами с девизом «Sarmatia devicta» («Побежденная Сарматия»). Император Константин расценил этот оскорбительный вызов как достаточный повод для военных действий против соправителя. К войне давно уже готовился и Лициний.
Оба августа в короткий срок набрали легионы и вспомогательные войска федератов колоссальной численности: 130 тысяч человек было под рукой у Константина и 165 тысяч у Лициния. Он имел также преимущество и в военно-морских силах. Его флот насчитывал 350 боевых кораблей, а флот Константина только 200. Военно-морскими силами Лициния командовал опытный адмирал Абантус. Флотоводцем у Константина был его юный сын цезарь Крисп, уже, правда, имевший опыт командования в военных операциях на Западе. Численное преимущество армии Лициния сводилось на нет тем, что в армии его противника сосредоточены были самые боеспособные силы империи – не только галлы и германцы, но в эту войну также и иллирийцы. Наспех набранные в азиатских провинциях солдаты Лициния уступали им боевым опытом.
В июне 323 года армия Константина вторглась во Фракию. Впереди войск по приказу Константина несли священный лабарум с изображением креста, увиденного на небе перед сражением с Максенцием, и монограммой Христа Спасителя, к которому император, по свидетельству Евсевия, и обратился вместе с находившимися в армии священниками с молитвой о даровании победы.
Навстречу двигались войска Лициния. Как пишет Евсевий, Лициний, окруживший себя «прорицателями и египетскими гадателями, составителями волшебных снадобий (фармакетес) и шарлатанами (гоитас), жрецами и пророками чтимых ими богов… вопрошал, каковым будет конец его войны. Прорицатели согласно отвечали, что он, бесспорно, останется победителем врагов и одержит верх в войне»[40]. А в самый канун сражения Лициний, по словам того же историка, «созвал избранных своих щитоносцев… и титулованных друзей в одно из заповедных и священных, по их верованиям, мест. То была влажная и тенистая роща, в которой стояли различные высеченные из камня статуи чтимых (язычниками) богов. Зажигая перед ними восковые свечи и принеся обычную жертву, Лициний произнес, говорят, следующую речь: “Любезные друзья и соратники! Вот отеческие боги, которых мы чтим, приняв издавна от предков (наставление) благоговеть перед ними. Напротив, начальник враждебного нам войска, отвергнув отеческие обычаи, принял безбожное мнение и находится в заблуждении, прославляет какого-то чужеземного, неизвестно откуда взятого Бога. Постыдным Его знаменем он срамит войско. Доверившись Ему, он поднимает оружие не против нас, а более против оставленных им богов”»[41]. Если доверять осведомленности Евсевия, которому передали сведения об этой речи «лично слушавшие» ее, Лициний сказал затем: «Настоящее время откроет, кто заблуждается в своем мнении: оно отдаст преимущество либо нашим богам, либо (богам) стороны противной, ибо если увенчает победой нас, то со всей справедливостью докажет, что спасители и истинные помощники суть наши боги, а когда над нашими, которых так много и которые числом доныне имеют преимущество, одержит верх какой-то, не знаю, откуда взявшийся, Бог Константина, то пусть уже никто не остается в сомнении, Кого почитать Богом, пусть всякий обратится к Сильнейшему и отдаст Ему пальму первенства»[42].
Войска противников встретились у ворот Адрианополя. Воины Лициния не дрогнули под натиском более опытных ветеранов противника, но несли тяжелые потери. Чтобы спасти армию, Лициний приказал отступить, когда исход сражения еще не был ясным. Как оказалось, на поле битвы пало 34 тысячи его солдат. Как и в первую войну с Константином, Лициний отвел свои войска к Византию. Тем временем флот под командованием Криспа разгромил военно-морские силы противника у входа в Геллеспонтский пролив и, войдя затем в Босфор и Золотой рог, блокировал Византий, который с суши уже был осажден армией его отца Константина. Лициний, объявив о низложении Константина и удостоив своего генерала Мартиниана титула августа, поручил ему командовать обороной Византия, а сам с частью армии перебрался на азиатский берег у Халкидона, пытаясь набрать там подкрепление для продолжения войны. Оставив часть войск для блокады Византия, Константин отправился во главе основных сил через Босфор и настиг армию Лициния у Хрисополя. В сражении у стен этого города Лициний потерял еще до 25 тысяч воинов. С оставшимися у него войсками он отступил в Никомидию.
Жена проигравшего императора, Констанция, убедила его, что у него остался единственный способ спасти свою жизнь – просить пощады у Константина. Заручившись согласием мужа на этот унизительный шаг, Констанция отправилась к брату. Тот изъявил готовность встретиться с Лицинием. «Константин, – по словам Дж. Бейкера, – приветствовал Лициния, признавшего себя побежденным, братским поцелуем, сел с ним за стол, назначил ему достойную пенсию и предложил ему в качестве резиденции Фессалоники»[43]. На этот раз Константин пощадил и новоиспеченного «августа» Мартиниана.
Но прошло несколько месяцев, и Лициний, а заодно и Мартиниан были казнены по приговору сената. Лициния обвинили в том, что он вступил в сговор с враждебными империи готами. В «Гетике» Иордана, написанной через две с лишним сотни лет после Константина, как раз содержится своеобразно трансформированный отголосок этого события: «При Константине их (имеются в виду готы. – прот. В.Ц.) позвали, и они подняли оружие против его родственника Лициния; победив, они заперли его в Фессалонике и, лишенного власти, пронзили мечом от имени Константина-победителя»[44].
По версии Евсевия, Лициний был предан смерти как враг Божий. О его сговоре с готами он не упоминает: «Богоненавистника и его приверженцев по окончании войны (Константин) предал… должной казни. Вместе с тираном взяты были, подвергнуты суду и погибли советники богоборчества»[45].
После низложения Лициния все изданные им акты были немедленно отменены, и христиане Востока получили полную свободу исповедания, дарованную им Миланским эдиктом. С окончанием гражданской войны в Римской империи было восстановлено единовластие. Введенная Диоклетианом тетрархия окончательно пала. Евсевий воздает за это хвалу Константину в самых патетических выражениях: «Все части Римской империи соединились в одно, все народы Востока слились с другой половиной государства, и целое украсилось единовластием как бы единой главой, и все начало жить под владычеством монархии. Светозарное сияние благочестия сидевшим прежде во тьме и сени смертной доставило дни радостные, не было больше и памяти о минувших бедствиях; все и всюду прославляли победителя и соглашались признавать Богом только Того, Кто доставил ему спасение. А славный во всяком роде благочестия василевс-победитель… принял Восток и, как было в древности, соединил в себе власть над всей Римской империей. Первый проповедав всем монархию Бога, он и сам царствовал над римлянами и держал в узде все живое»[46]. В этих словах церковного историка впервые в христианской литературе выражена кардинальная для позднейшей византийской историософии идея взаимосвязи Божественной монархии с отражающей ее в тварном мире монархией политической.
Утверждение монархического элемента в государственном строе империи выражено было в возвышении статуса императорского дома. Еще в 317 году сыновья Константина Крисп и Константин были провозглашены цезарями; в 324 году цезарем стал его второй сын от Фаусты Констанций, тогда еще младенец; позже, в 333 году, этого титула были удостоены младший из сыновей императора Констант, в ту пору достигший отроческого возраста, а в 335 году также и его племянник Делмаций. В 324 году мать Константина святая Елена стала августой, одновременно она получила право пользоваться средствами из фиска, не предоставляя сыну отчета в их употреблении. Благочестивая старица тратила их на строительство церквей, в особенности на Святой земле, а также на помощь нуждающимся и нищим. И все же, несмотря на укрепление монархических начал правления, Рим и при святом Константине оставался республикой, и ни он, ни его преемники во власти до VII столетия по отношению к самим себе никогда не употребляли в официальных актах титула rex, или, по-гречески, василевс, не возбраняя, однако, придворным панегиристам, вроде Евсевия Кесарийского, величать их царями – речь идет, естественно, не об этимологии русского слова «царь», которое восходит к давно уже вошедшему в государственную титулатуру Рима званию цезаря.
Победе Константина над Лицинием радовались не одни только христиане, но и другие благонамеренные римляне, вероятно за исключением только ревностных язычников, к тому времени уже встречавшихся не часто, а по словам Евсевия, которые, конечно, не стоит понимать буквально, – все, ибо «исчез всякий страх бедствий, которые перед тем всех удручали, и люди, до того времени с поникшим взором, теперь смотрели друг на друга светлыми глазами, и на лицах были улыбки»[47].
(Продолжение следует.)

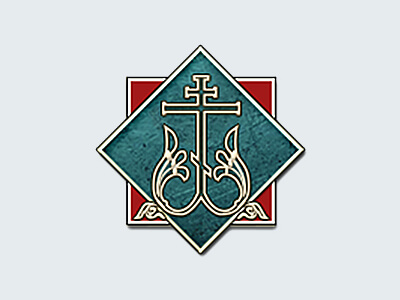

Знамения бывают не только от Бога, тут надо быть осторожным. Иногда дьявол знамениями пытается затащить нас в ловушку.
Война с Японией, Мировая война, вот и не верь. Господь часто посылает ВСЕМ знамения (в нашей жизни)мы слепы по грехам своим.Только стоит напрячь внимание к жизни ивы увидите, как бог нас оберегает, предупреждая об опасности. Жить с Богом, это ЧУДО! Другим религиям трудно понять, если они не признают Христа, Святого духа и пр.Может быть когда нибудь и они поймут, что отвергая ИСТИНУ, как можно, что то видеть. Спасибо за такие статьи. Это наша ИСТИНА, через которую люди достигали ВЫСОТ. Храни все Господь.
Очень подробно и при этом доступно написанно. Жду продолжения.