Осиротевшая обитель
Драматический сюжет Жития преподобного Ферапонта, вынужденного в повиновении можайскому князю оставить основанный им на Белом озере монастырь, заканчивается интригующим читателя многоточием: доживая последние дни своей жизни в Лужецком монастыре, Ферапонт душой болеет за осиротевшую без настоятеля общину и предает в руки Божии созданный им монастырь… Но кто ободрит иноков, оставленных своим духовным отцом, в час искушения и мучительного сомнения? Кто возьмет на себя окормление словесных овец его возлюбленного двора? Эти мысли мучили Ферапонта на протяжении многих дней, и своими молитвами он стремился по возможности восполнить утрату, которая могла разорить плоды трудов всей его жизни. Но «Богъ Всемилосердый не навыче презирати угодникъ Своих, молящихся Ему и служащихъ день и нощь», – отвечает Ферапонту агиограф преподобного Мартиниана, ведь именно этому ученику Кирилла Белозерского суждено было воспринять старейшинство в обители Рождества Богородицы и стать настоящим преемником преподобного.
Житие Мартиниана пишет насельник, а возможно – и постриженик основанного Ферапонтом монастыря. Описывая события с внушительной временной дистанции, агиограф умеет поставить себя в положение одного из тех монахов, кому сначала пришлось проводить Ферапонта в Можайск, а чуть позднее получить от него скорбное известие о том, что старец более в обитель не вернется…
Оторопь, охватившая братию в первые дни после получения роковой вести, в скором времени сменилась глухим недовольством, и ропотные речи поначалу тихо, вполголоса, но чем дальше, тем громче стали раздаваться в темных предсениях братских келий. Судьба обители висела на волоске: если монахи уйдут, то собор, кельи и иные строения порастут мхом, Часословы и Октоихи покроются пылью и сам монастырь станет прибежищем для разбойников и диких зверей. Однако молитва Ферапонта была услышана: Господь, некогда пославший осиротевшим по смерти Моисея израильтянам Иисуса Навина, «часа того посла в него (Ферапонта. – М.К.) мѣсто преподобнаго Мартиниана», Кириллова ученика.
«Научи отрочка сего»
Мартиниан (в крещении Михаил) родился недалеко от Кириллова монастыря («от ближнихъ властей святаго, Сяма зовомо») в семье благочестивых родителей, людей, по всей видимости, небогатых, которые пожелали вывести своего сына в люди и, главное, дать ему хорошее образование, к которому ревностно тянулся мальчик от младых ногтей. Отец Михаила привел отрока в монастырь к преподобному Кириллу, который славился в округе не только святой жизнью, но и своей особенной любовью к книжной премудрости.
В тот день, когда Михаил познакомился с белозерским игуменом, преподобный Кирилл увидел пред собой отрока лет десяти. Игумен отдал мальчика в научение монастырскому дьяку Олешу Павлову, в доме которого предстояло провести Михаилу несколько лет, со следующими словами: «Друже, сътвори ми любовь Божию: научи ми отрочка сего грамотѣ, егоже видиши. Да и се ти глаголю пред Богомъ: съхрани его, яко зѣницю ока, въ всякой чистотѣ».
Михаил учился грамоте быстро, схватывая знания на лету. Олеша диву давался его сметливости и сравнивал курс обучения этого своего ученика с дорогой, пройденной спящим в радостном сне. В скором времени отрок снова оказывается в стенах Кирилловой обители, и перед игуменом встает вопрос о будущей судьбе мальчика. Просьбу родителей он выполнил. Собственно, ни о чем другом его и не просили… Однако сам Михаил со слезами молит настоятеля: «Възми мене, господине, к себѣ». Кирилл в раздумье. Дьяк, успевший полюбить талантливого ребенка, стоит здесь же, безмолвным ходатаем умоляя игумена за своего питомца. Но тот еще слишком молод, и Кирилл должен понять, выяснить «опасно», что же ждет этого ребенка в зрелом возрасте, есть ли в его благом расположении к иноческой жизни истинная глубина, которая может с годами перерасти в степенность маститого старчества: «И еще ему из младыа връсты сущу, искушаше и сматряаше его святый, кое предложение имать».
Когда прошел срок испытания, игумен, видя кротость и незлобие отрока, постригает его в иночество, нарекая Мартинианом. Как некогда Сергий поселил юношу Никона в своей игуменской келье, поселяет в своей келье юного Мартиниана Кирилл. «И бысть ему любимый ученикъ», – говорит агиограф. Это произошло, надо полагать, в начале 10-х годов XV века, когда Кириллу было около 70 лет, а молодому иноку Мартиниану едва ли исполнилось 15.
«Хочет он, братие, быть искусным иноком»
Главной добродетелью молодого Мартиниана стало его послушание Кириллу. «Всем умом повиновался ему», – пишет агиограф
Преемниками преподобных игуменов Древней Руси гораздо чаще становились совсем молодые иноки; монахи одного поколения редко находили общий язык (сверстники Ферапонт и Кирилл Белозерские, Сергий и Стефан Радонежские вынуждены были в скором времени расстаться); ведь именно отроки могли стать учениками преподобных в полном смысле этого слова. Так было с Никоном Радонежским, Амфилохием Глушицким, так было и с Мартинианом. Они росли и мужали на глазах у своих духовников, поверяли им свои помыслы, внимали слову Божиему, исходящему из их уст, глядели на мир их глазами и ставили закон преемственности в развитии братства выше других законов монашеского жития. Вот почему главной добродетелью молодого Мартиниана становится его послушание Кириллу. «Всѣм умомъ повиновашеся ему… – пишет агиограф, – и тако бяше старцу повинуася, якоже аггелъ Христу». Закон послушания в духовном развитии Мартиниана вытесняет проявление аскетической инициативы, и, когда инок просит позволения игумена усилить пост «юности ради», Кирилл отказывает ему, повелевая причащаться пищи с прочей братией в общей трапезной монастыря.
Житие рисует проникновенные картины совместной молитвы юного инока и убеленного благолепными сединами старца. В то время как согбенный трудами и бременем прожитых лет Кирилл мерным голосом читает слова молитв, составивших его келейное правило много лет назад, его молодой ученик по велению старца кладет земные поклоны перед образом Спасителя в потемневшей от времени серебряной ризе. При тусклом сиянии лампады едва различимо движение воскрылий монашеской мантии Мартиниана. Лучина потухла, однако Кирилл продолжает чтение, как и прежде: слова молитв и псалмов известны ему наизусть, и каждый новый день открывает перед игуменом новые сокровища святоотеческой премудрости. Массивные рукописи, которыми заставлены широкие подоконники игуменской кельи, стали неотъемлемой частью ее интерьера. Любовь к книгам и духовной литературе Кирилл передаст и своему воспитаннику, который со временем, подражая наставнику, станет собирать вокруг себя богатую библиотеку писаний святых отцов… Келейное правило в покоях настоятеля продолжается до тех пор, пока пробужденный на рассвете пономарь мерными ударами в било не начинает возвещать братии начало нового молитвенного дня.
– Се, Мартиньяне, волиши почити, дондеже начнет екклесиарх благовестити к заутреннему пению, – скажет в это мгновение Кирилл, закрывая Псалтирь и опуская руку с шерстяными четками в глубокий карман своей заплатанной ряски.
– Ей, отче, – ответит Мартиниан, рассудив, что для сна ему оставлено более двух часов. Впрочем, мгновение спустя он усомнится: – Негли, отче, станет братия судити, яко иждиваю живот иноческий во многом спании и во мнозей лености небрегу о соборном правиле?
Кирилл медленным шагом подступит к иноку, сожмет его руку повыше локтя и, заглядывая в ясные, как небо, голубые его глаза, засмеется теплым, добрым смехом:
– Мнит ми ся, сыне, яко не прегрешат отцы в суждении своем…
Впрочем, уединившись со старшей братией, Кирилл, бывало, вспомнит о Мартиниане и нехотя откроет свои сокровенные думы: «Съ хощет, братие, искусенъ инокъ быти».
Итак, Мартиниан растет и мужает под заботливым игуменским оком. В какой-то момент Кирилл проводит своего воспитанника через искушение тяжелыми монастырскими послушаниями – хлебней и поварней, заготовкой дров и ношением воды. Мартиниану, руки которого с отроческих лет более привыкли держать в руках изящную трость книжника-скорописца, нежели тяжелую рукоятку топора, все это давалось непросто, однако Кирилл полагал, что добрый инок должен уметь служить монастырю на всяком месте. Да и не раз вспоминалось игумену, как, покинув когда-то поварню Симонова монастыря, чтобы начать переписывать книги в скриптории той же обители, потерял он тот дар умиления, который стяжал было, трудясь на тяжелом послушании, утешая братию.
Мартиниан с тщанием и смирением проходит все монастырские службы. И со временем, дав иноку важнейшие уроки монашеского делания («Блажен братъ съ, яко такова подвижника сподобися ученикъ быти!»), Кирилл отпускает его из своей кельи в большой монастырь. К этому времени Мартиниан был рукоположен в диаконы, сослужил Кириллу во время Божественной литургии и, говорит агиограф, «въскорѣ исправися милостиею Божиею и преподобнаго молитвами и учениемъ».
Впрочем, птенца, покинувшего Кириллово гнездо, многие братия встретили со сдавленным недоброжелательством: кто-то искренне радовался его преуспеянию в духовной жизни и молил за него Бога, понимая, сколь многие искушения еще ждут молодого инока на его пути, однако большая часть, подстрекаемая завистью, глухо враждовала; и чем более длилось окормление Мартиниана в игуменской келье, тем сильнее вскипали в сердцах иноков неприязненные чувства к келейнику благодатного старца. Быть может, именно это послужило причиной, по которой Кирилл отдалил от себя инока в конце своих дней.
Благословение
Кирилл умер, когда Мартиниану было 25. Тогда, десять лет назад, он перенес эту утрату почти безболезненно: казалось, преподобный с ангельской легкостью переступит порог вечности, и слезы у его гроба лишь омрачат ликование праведной души в лучах невечернего света. И только теперь, десять лет спустя, представилась иноку вся невосполнимая горечь утраты…
Июньским утром Мартиниан, одетый по-дорожному, рано, задолго до того, как пономарь взял в руки свое било, тихой поступью вошел в притвор Успенского собора. И хотя солнце уже ярко светило во дворе, играя смешливыми бликами на поверхности лужиц, оставленных ночной грозой, и выкуривая из свернувшихся за ночь лепестков сирени крупные, как слезы сирот, капли росы, в храме было все еще зябко. Мартиниан повел плечами и огляделся, словно припоминая свое первое впечатление от созерцания смиренного величия этого храма, тот образ, который поразил его когда-то, много лет назад. Он был тогда десятилетним мальчиком, в испуге цепкой ручонкой схватившим полу отцова армяка и с замиранием сердца ступающим в неизведанное, необыкновенное. Себя мальчиком он помнил хорошо, но то впечатление, которое так хотелось возобновить усилием воли, ушло в невозвратное, и не стоило тратить сил, чтобы обратить вспять обычное течение времени. Слишком много было пережито в этих стенах за двадцать лет, слишком многое открывалось юноше в мерном пении братского хора.
Молча, неподвижным взглядом упираясь в ровную поверхность пола, прошел он известным шагом в правый притвор. Он шел, не крестясь на суровые лики египетских пустынников и не кланяясь скорбным образам мучеников первых веков, с удивленным участием читавших следы внутренней борьбы на его мужественном лице. Сегодня он шел только к Кириллу.
Подойдя к сени над мощами преподобного, Мартиниан едва заметно вздрогнул, провел концами пальцев, едва видневшихся из-под широкого рукава мантии, по внешнему ребру надгробия и медленно встал на колени.
– Отче Кирилле, – сказал он, с едва ли не детской нежностью вглядываясь в черты вырезанного в дубовом столбе его надгробия фигурного льва, – сколько раз приходилось мне слышать тихим февральским вечером первые звуки 136-го псалма и оборачиваться в твою сторону, чтобы одним взором поделиться радостью от приближения благословенных дней Великого поста! Но тебя не было… Сколько раз я слышал твои интонации в игуменском чтении тропарей Великого канона и в братском пении его проникновенных ирмосов! Но это был не ты… Как часто, читая книги, писанные твоей рукой, казалось мне, что это ты сидишь подле и, как бывало прежде, повествуешь о деяниях святых! Но книга заканчивалась, и ты уходил…
Мартиниан встал и подошел к окну. Он с усилием растворил створку и с наслаждением вдохнул ароматы июньского леса. Апостол был раскрыт екклесиархом еще со вчерашнего дня на рядовой главе сегодняшней Литургии, и ветер стал переворачивать его смуглые листы…
– Отче Кирилле, в час моего пострига, ты помнишь, ты сказал: «Се, Мартимьяне, время благоприятно, се, сыне, день спасения». Это случилось второго дни… Да, именно так, ведь тот первый день продлился пятнадцать лет, проведенных в твоей келье. Ты повторил это на второй день, в час своей праведной кончины. И этот день длился еще десять лет. Но вот уж и третий день настает, а это значит, что теперь мне пора… Я ухожу один, без друга, без спутника, без благословения… Туда, куда ушел когда-то и ты в сопровождении Ферапонта, – на благословенный север, в безмолвную ширь хвойных лесов.
Приблизив книгу к свету, он прочел: «Во время благоприятное услышал тебя и в день спасения помог тебе…»
Внезапно резкий порыв сквозного ветра с печальным стоном раскрыл оконную створку, и ветхий Апостол с шумом ударился оземь. Мартиниан обернулся, поднял грузный фолиант, не переменяя раскрывшихся в падении листов. Приблизив книгу к свету, инок начал читать. Второе коринфянам, шестая глава: «Братие, глаголет бо: во время благоприятно послушах тебе, и в день спасения помогох ти…»
Далее Мартиниан не читал. Подойдя к надгробию Кирилла, он молча сделал три земных поклона, медленно встал и, ступая тихо, очень тихо, словно опасаясь расплескать свою мирную радость, молча вышел вон. Пономарь, с которым встретился Мартиниан в дверях Успенского храма, с удивлением посторонился и еще долго смотрел ему вслед, до тех пор пока высокая фигура инока не скрылась за Святыми вратами Кириллова монастыря…
Божиим распорядительством
Мартиниан уходил безмолвствовать на Вожеозеро, расположенное ста верстами севернее обители преподобного Кирилла. Некоторое время спустя эта пустынька превратилась в монастырь, и Мартиниан, покорствуя братии (именно так представляет события Житие), выстроил в ней Преображенский храм. Впрочем, агиограф скупо и даже с некоторым пренебрежением повествует о вожеозерских годах жизни инока: в течение нескольких лет Преображенская обитель оспаривает с Ферапонтовым монастырем свое право называть этого Кириллова ученика своим настоятелем. Поведение самого Мартиниана представляется в этом фрагменте Жития крайне странным и непоследовательным, а, описывая происходящее, агиограф, кажется, стремился обойти некоторые неудобные для него вопросы.
Когда Преображенский монастырь был уже вполне благоустроен, «въсхотѣ… блаженный ити помолитися къ Пречистѣй Богородици в Ферапонтов монастырь». По некоторым косвенным свидетельствам можно догадаться, что «ити» на богомолье в Ферапонтов монастырь Мартиниан «восхоте» как раз тогда, когда Ферапонт переселился в Можайск. Житие утверждает, что Мартиниана призывает в Ферапонтов монастырь и приглашает остаться в нем игумен с братиями, однако формально игуменом был отнюдь не сам Ферапонт, который, по всей видимости, до конца своих дней не пожелал принять священнический сан, а кто-то из насельников обители, не известный по имени. Впрочем, имея сан и возглавляя богослужение, игумен Ферапонтова монастыря реальной властью в обители не обладал – вопросы управления ею и окормления паствы решал до недавнего времени Ферапонт.
Итак, Мартиниан приходит в Белозерский монастырь и останавливается в нем на некоторое время, в течение которого братия усердно уговаривают его поселиться в обители навсегда, однако вскоре преподобный принимает решение вернуться на Вожеозеро. На пороге Ферапонтова монастыря он произносит следующие загадочные слова: «Аще Господь Богъ изволит и Пречистаа Богородица не отринет мене грѣшнаго, то азъ буду с вами жителствовати, оже дасть Богъ, в предниа дни». После того следует продолжительный промежуток времени, когда Мартиниан живет в основанном им Преображенском монастыре, однако заканчивает преподобный окончательным переселением в обитель Ферапонта.
В память о своем наставнике и его товарище преподобном Ферапонте согласился он отправиться в Ферапонтову обитель
При чтении этого эпизода возникает несколько вопросов. Первый из них: как мог Мартиниан покинуть созданную им Преображенскую обитель и прийти в Белозерский монастырь? Соглашаясь возглавить Белозерскую пустынь, преподобный повторял поступок Ферапонта, также оставившего основанный им же монастырь, но тот принимал вынужденное решение, навязанное ему можайским князем, в то время как Мартиниана никто не неволил. На его решение могла повлиять просьба самого Ферапонта, который наверняка имел возможность или от своего лица, или используя свои связи со старцами родного для Мартиниана Кириллова монастыря переслать к молодому, но несомненно талантливому иноку свою просьбу принять участие в жизни его обители. Память о духовном отце Кирилле и о его товарищах, одним из которых был Ферапонт, была свята для Мартиниана, вот почему он, не раздумывая, соглашается приехать в Ферапонтов монастырь в скором времени после ухода старца в Можайск.
Однако для чего понадобилось Мартиниану вернуться обратно на Вожеозеро? Дело в том, что уход Ферапонта совершился внезапно и был произведен, сообщает его Житие, едва ли не насильственным способом, и преподобный не успел сделать самых необходимых распоряжений. Зная о вожеозерской обители Мартиниана, старец приглашал его в свой монастырь отнюдь не для того, чтобы тот занял его место, а лишь с целью несколько наладить духовную и хозяйственную жизнь монастыря. Этим, впрочем, должны были воспользоваться белозерские иноки и игумен, которые стали упрашивать Мартиниана остаться у них насовсем. Однако, помня о вожеозерской пустыни, преподобный не чувствует себя вправе покинуть собранных его именем чернецов и принимает решение вернуться в Преображенскую обитель.
«Не будет благословения тебе и твоему княжению!» – в гневе проговорил старец и покинул палаты
Наконец, последний вопрос, возникающий при чтении этого загадочного фрагмента: отчего все же преподобный покинул обитель и окончательно вселился в Ферапонтов монастырь? Житие Мартиниана говорит об этом так: «Приидошя же к нему и другыя жителя». Кем бы ни были эти «другие жители», пришли они именно «к нему», то есть в основанную Мартинианом общину. Однако Мартиниан, «видѣвъ их прилежание, остави их ту жителствовати и се имъ прирекъ: “Якоже сами изволили есте”». Впрочем, подобный ответ стал возможным, по всей видимости, потому, что среди пришедших «жителей» были люди, сведущие в духовной жизни и умеющие управлять монастырем, люди, в руки которых мог Мартиниан передать управление братством. Так, глубокомысленно замечает агиограф, «многажды же аще и начинают человѣци, но Богъ же всяведый на полезнаа паче наводит». Строение Вожеозерской пустыни начал человек по имени Мартиниан, но конец делу положил Господь, приславший в обитель достойных продолжателей его трудов. Вот почему преподобный со спокойной душой возвращается в родное Белозерье, в тот монастырь, где его пришествия чают как Божиего благословения, поскольку видят в нем наперсника и преемника любимого старца.
Игумен и князь
Некоторое время спустя Белозерскую обитель покидает безымянный игумен, и братия уговаривает Мартиниана принять священнический сан. Поставление осуществляется при участии можайского князя Михаила, сына ктитора Лужецкого монастыря князя Андрея, обещавшего некогда Ферапонту и в своем лице, а позднее через своих детей благотворить его обители. Михаил и позднее входит в нужды монастыря и считает его своей вотчиной. Вообще, как это ни прискорбно, князья с середины XV века часто делают из игуменов подвластных им монастырей если не холопов, обязанных подчиняться им безусловно и безоговорочно, то вассалов, вынужденных не только признавать их авторитет, но и сообразовывать свои действия с их политическими амбициями.
Главным достижением Мартиниана в сане Белозерского игумена становится, по мнению агиографа, укоренение в монастыре общежительного устава преподобного Кирилла, который уже при основании обители был принят Ферапонтом как образцовый. Так, замечает биограф преподобного, будучи учеником Кирилла, Мартиниан становится «братом-домоводцем» преподобного Ферапонта.
Именно Мартиниан благословил ослепленного Шемякой князя Василия Темного на борьбу за московский престол
Однако Мартиниану суждено было не только сделаться крепким молитвенником и рачительным игуменом вверенного ему Богом монастыря: преподобный вошел в русскую историю, став одним из ключевых лиц русской смуты XV столетия, ведь именно Мартиниан благословляет ослепленного Дмитрием Шемякой князя Василия Темного на борьбу за московский престол. Как известно, Василий целовал крест своему сопернику, обещая тому раз и навсегда отказаться от претензий на великое княжение, а нарушение крестного целования традиционно считалось страшнейшим грехом, и, совершая его, – писал когда-то Мономах, за шапку которого боролся Василий, – человек навеки губит свою душу. Именно Мартиниан берет на себя ответственность благословить ослепленного князя на поход против Шемяки и его войска. Житие не скупится в выражениях, описывая пороки этого злодея. Его низложение становится, по мнению агиографа, всего лишь восстановлением попранной справедливости. Еще до решающего сражения Василий высоко оценивает ту моральную поддержку, которую оказывает ему игумен Мартиниан, и обещает старцу в случае удачного исхода кампании щедро отплатить за его добро.
В это время недавние приверженцы отступают от Шемяки, душа его мучается поздним раскаянием, он терпит сокрушительное поражение от объединенных Василием войск и удаляется сначала в Галич, а после в Новгород, где погибает, отравленный своим близким слугой. Вся полнота власти переходит в руки слепца. Василий не забывает об обещании, данном им Мартиниану, и делает Белозерскому игумену воистину царский подарок: волей великого князя старец становится пятым после Сергия игуменом Троицкого монастыря.
В какой-то момент Василий решил, что получил в свое распоряжение марионетку в рясе, «ручного» игумена, которого можно будет использовать как очень удобное оружие против своих политических оппонентов. Однажды он призывает Мартиниана к себе в Москву: один из приближенных к его престолу бояр перешел под власть тверского князя. Василий крайне раздосадован и умоляет игумена вернуть беглеца, обещая тому полную амнистию и восстановление во всех утраченных правах. Мартиниан, помня о миротворческих акциях самого Сергия Радонежского, в обители которого несет он теперь крест игуменского послушания, направляется в Тверь и, уверяя боярина-диссидента в том, что опасность миновала, привозит того назад.
Какое-то время спустя Василий все же обрушивает свой державный гнев на провинившегося вельможу и заточает легковерного в темницу. По-видимому, это происходит не сразу, потому что Мартиниан узнает об этом лишь некоторое время спустя, когда родственники опального «вдашя нарѣчие… в Сергиевъ монастырь». Поступок Василия едва ли был проявлением осмысленного вероломства, скорее всего в какой-то момент неосторожным словом или опрометчивым поступком боярин напомнил князю о своей прежней вине, и тогда Василий в приступе ярости повелел оковать предателя и агента Твери и бросить его в темницу. Как бы то ни было, в минуту гнева Василий не был остановлен мыслью о своем духовном отце Мартиниане, усилиями которого боярин вновь оказался в Москве.
Узнав о произошедшем от родственников узника, Мартиниан «оскорбися зѣло, яко измѣну сътвори над боярином». Получается, что это именно он предал несчастного, отдав его в руки немилосердного владыки. Справедливые упреки детей репрессированного больно отозвались в сердце старца. Не медля ни минуты, игумен садится на коня и верхом (!) скачет в стольный град. Мартиниан «внезаапу прииде в великаго князя храмины, никому же вѣдяшу его». Беспрепятственный вход игумена в палаты не мог быть случаен: по всей видимости, Мартиниан был в Кремле частым и желанным гостем. Однако в этот раз вход старца не был похож на обычное посещение игуменом своего духовного сына. Сегодня Мартиниан действовал в состоянии аффекта: такого вероломного обмана он никак не ожидал. Игумен, говорит агиограф, «пришед, тлъкнувъ двери» княжеских палат, и, близ князя «напрасно пришедъ», обвинил Василия в коварном обмане, а после и вовсе отрекся от своего духовного сына: «Не буди мое, грѣшнаго, благословение на тебѣ и на твоем великомъ княжении!» Произнеся эти страшные для Василия слова, игумен «обратився от гнѣва, скоро изыде из храмины». Не задержавшись в Москве ни минутой больше, Мартиниан опрометью скачет назад, не желая иметь с недостойным чадом ничего общего.
Приговор игумена был суров: чем, как не благословением Мартиниана, держалась власть теперешнего московского князя? Впервые увидев ослепленного и униженного страдальца, бесславно влачащего свои дни вдали от отчего престола, игумен разглядел в Василии черты страстотерпца, мученика, низверженного коварным авантюристом. Теперь же амплуа интригана пристало самому Василию. Князь, не отдавая в том себе отчета, рвал те самые струны, на которых игралась когда-то в душе Мартиниана мелодия, сочувствующая его «напрасной» слепоте. По уходе инока князь разыгрывает перед боярами глумливую сцену мнимой растерянности, словно недоумевая, как ему теперь быть: «Боляре, смотрите ми черньца того болотнаго, что ми сътвори: напрасно пришедъ в храмину мою и обличи, и Божие благословение снят, и безъ великаго княжениа мя постави». «Чернец болотный» – это о годах, проведенных Мартинианом в Вожеозерье: Василий хорошо знал биографию своего духовного учителя и умел при необходимости подпустить шпильку. Однако последние слова, произнесенные князем, пожалуй, в шутливом тоне, на деле прозвучали как мрачное пророчество о неотвратимости Божиего возмездия, ожидающего немилосердного правителя. Василий слишком хорошо на своем опыте знал, что это возмездие существует, и, вполне осознав, что стоит на кону, в скором времени освободил провинившегося боярина и направился в Троицкий монастырь, чтобы испросить прощения у оскорбленного им старца.
И снова в обители преподобного Ферапонта
В конце жизни Мартиниан, изнемогая от груза ответственности, которым обременяло его настоятельство в Троицком монастыре, оставляет Сергиеву обитель и уходит на покой в Ферапонтово. Однако братия Белозерского монастыря слезными мольбами убеждает преподобного принять игуменство. Преподобный долгое время отказывается, ссылаясь на то, что его пошатнувшееся здоровье уже не выдержит трудов по управлению обителью. Действительно, в последние годы жизни Мартиниан оказался частично парализован и не имел сил взойти на церковное крыльцо, а на службу на своих руках его приносил брат по имени Галактион: «На съборное же пѣние братиею возим, иногда рукама поддержимъ бяше старости ради немощи многыа». Несмотря на это, старец, уступая мольбам игумена, все же соглашается принять старейшинство над Ферапонтовой обителью, даже если ценой этому станет, как он говорит, необходимость «умрети въ обители Пречистыа за брата моего и господина блаженнаго Ферапонта».
Мартиниан действительно умирает за дело своего брата и господина, исполняя до последнего издыхания, превозмогая боль и усталость, обязанности игумена Ферапонтова монастыря.
Долгое время после его смерти обитель в память о нем носит имя Мартимьяновой, имеет тесные связи с Троице-Сергиевым монастырем, хранит уникальный устав, в котором традиции Кириллова и Сергиева монастырей соединяются с заветами самого Мартиниана.
У гробницы преподобного исцеляются те, кто уже отчаялся получить облегчение своему страданию, от кого отвернулись родственники и друзья, кем гнушаются даже монахи. Незримо и таинственно участвует Мартиниан в жизни обители и после своей кончины.
Так складывался в XV веке новый древнерусский патерик, вместивший схожие по стилистике и манере изложения сказания о святых монахах Белозерья (Кирилла, Ферапонта, Мартиниана, Галактиона, их учеников), и, обращаясь к своему читателю в финальной части Жития, агиограф Мартиниана говорит о духовных детях преподобного следующее: «И сиа не невѣсть святость твоа, о възлюбленне, – пред тобою нынѣ вся предлежят: мнози от нѣдръ онѣхъ преподобных отець епископи изыдошя, мнозии игумени, учителие и наставници общим житиамъ. И сиа, вѣмъ, не невѣси: мнози отцы и братиа, ученици их, прозорливи бышя и мнози Божиа благодати исплънени и райскыа пища сподобишася».




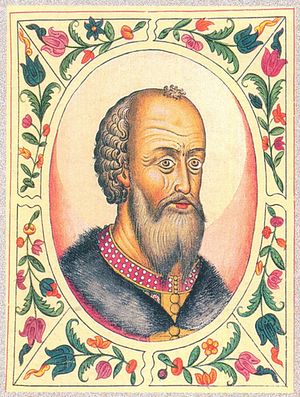







Отче Мартниане, моли Бога о нас!