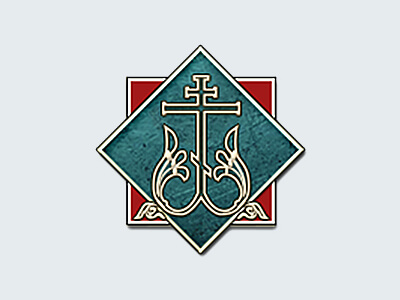Иконоборцы Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силлейский замазывают известкой лик Христа
Иконоборцы Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силлейский замазывают известкой лик Христа
Император Лев Исавр вошел в историю как правитель, развязавший гонения на иконы и их почитателей. Начало им было положено в 726-м г., по предположению некоторых историков – эдиктом, текст которого не сохранился. Впрочем, само существование этого эдикта сомнительно. Так, русский византолог Г. А. Острогорский полагал, что в 726-м г. Лев эдикта не издавал, «но, скорее, начал публично высказываться против икон»[1], как, собственно, и написано в «Хронике» Феофана Исповедника: в «сем году нечестивый Леон начал говорить об уничтожении святых и досточтимых икон»[2]. Феофан увязывает начало гонений на иконы с бедствиями, причиненными извержением вулкана в Средиземном море, от которого пострадали жители Лесбоса, Абидоса и других мест в Македонии и на азиатском прибрежье: Лев, «толкуя в свою пользу гнев Божий, воздвиг самую бесстыдную войну против святых и досточтимых икон»[3], иными словами, расценил происшедшую катастрофу как наказание Божие за почитание икон. У некоторых историков бытует мнение, что Император не настаивал на уничтожении икон, а только требовал разместить их в церквах выше, чем это было принято тогда, чтобы верующие люди не могли их лобызать, в чем Император и его советники усматривали проявление язычества, своего рода идололатрию. Но это неверное предположение, поскольку иконные изображения в храмах Константинополя в ту эпоху по преимуществу представляли собой мозаику или фрески, которые не могли быть отделены от стены.
Первым актом гонений стало разрушение чудотворного скульптурного образа Спасителя Антифонита (Поручителя) в центре столицы, на Халкопратийских вратах Большого императорского дворца. Лев направил туда спафарокандидата Ювина заменить образ Спасителя на крест. «Там, – как писал папа Григорий II в первом послании Льву, вошедшем в деяния VII Вселенского Собора, – находились ревностные женщины, которые умоляли спафарокандидата, говоря: нет! нет! не делай этого! Но он не внял их просьбам, поставил лестницу и, поднявшись по ней, трижды ударил топором в лицо Спасителя. Видя это и не имея сил перенести такого нечестия, женщины отодвинули лестницу и бичами засекли его до смерти»[4]. В ответ воины, сопровождавшие Ювина, учинили массовое избиение этих женщин. Свидетелями расправы были купцы из Рима и других городов Запада, от которых весть о происшествии дошла до папы. Церковь причислила жертв этой расправы к лику святых.
Хотя прямым инициатором иконоборческой кампании выступил Император, нельзя сказать, чтобы иконоборческие идеи не находили поддержки в самой церковной среде. Эта поддержка, правда, как выяснилось вскоре, была незначительной, и все же Патриарх Константинопольский, святой Герман, еще до 726 г. обращался с посланиями к трем епископам – Иоанну Синадскому, Константину Наколийскому и Фоме Клавдиопольскому – с увещеваниями, вызванными их, как это видно из содержания посланий, негативным отношением к почитанию икон, в чем они усматривали попрание заповеди Божией, воспрещающей творить кумиров и им поклоняться. Так, епископу Константину святитель писал, что тот «прибывши... в свой город, решился... уничтожить иконы, как будто это было общим мнением и не подлежало никакому сомнению и рассмотрению»[5]. Давая богословское обоснование почитанию икон, Патриарх в послании Иоанну Синадскому возводит его к догмату о воплощении Сына Божия:
«Так как единородный Сын, сущий в лоне Отца... соизволил сделаться человеком.... приобщившись нашей плоти и крови... то мы, изображая икону человеческого Его образа и человеческого вида Его по плоти, а не божества Его, которое непостижимо и невидимо, стараемся наглядно представить предметы веры и показать, что Он не фантастично и не призрачно соединился с нашим естеством... но что на самом деле и по истине соделался совершенным человеком, исключая одного посеянного в нас диаволом греха»[6].
Так посланиями святого Германа задан был лейтмотив антииконоборческой полемики, затем развитый преподобным Иоанном Дамаскиным.
 Лев III Исавр и его сын Константин V
Лев III Исавр и его сын Константин V
Лев Исавр, ознакомившись со спором о почитании икон, взял сторону иконоборцев. Ложно понимаемая им идея симфонии священства и царства, из которой он выводил принадлежность ему, как царю, василевсу, священнического достоинства, побудила его безрассудно вмешаться в этот спор и поддержать одну из сторон в нем, причем слабейшую и, главное, заблуждающуюся сторону, но на чашу весов в ее пользу Императором брошена была принадлежавшая ему земная власть и сила. Впервые в истории богословских споров, которые почти без временных интервалов велись в Новом Риме, в центр полемики поставлена была тема, волновавшая не избранных знатоков, но буквально всех. В.В. Болотов писал в этой связи:
«Иконоборчество от предшествующих еретических смут отличается тем, что вопрос, о котором шла речь в данном случае, был понятен всем, тогда как предшествующие вопросы о Троице и воплощении были выше понимания масс простого народа. Поэтому преследование, например, православных дифелитов затрагивало почти исключительно богословов, единицы, – иконоборчество же не могло не затронуть и масс народа»[7].
Но В.В. Болотов прав лишь отчасти, утверждая, что «вопрос о почитании икон переводит нас в такую область (практической церковной жизни), в которой до сих пор вращалась обыкновенно богословская мысль Запада, тогда как греческий Восток занимался более отвлеченными догматическими вопросами о Св. Троице и воплощении»[8]. Односторонность этого заключения следует скорректировать указанием на христологическую основу догмата об иконопочитании, о чем святой Герман писал еще до начала гонений на иконы в послании противнику иконопочитания Иоанну Синадскому.
Гонения на иконы грубо оскорбили религиозные чувства народа
Ввиду доступности темы народному восприятию, гонения на иконы грубо оскорбили религиозные чувства благочестивого народа, особенно там, где почитание икон получило самое широкое распространение, – в Элладе. Ответом на казни мучениц, пострадавших за иконы в столице, стало восстание, вспыхнувшее в 727-м г. и охватившее Элладскую фему и Кикладские острова. Возглавил мятеж турмарх Агаллин, провозгласивший Императором некоего Косму. Восставшие прибыли на военных судах под стены Константинополя, чтобы штурмовать их, но 18 апреля 727 г. войска и флот, верные Льву, разгромили мятежников; Агаллин утонул, а Косма и другие предводители мятежа были подвергнуты смертной казни. Патриархи Александрийский Косма, Иерусалимский Иоанн V и местоблюститель Антиохийского престола Стефан, пребывавшие вне пределов Империи, в исламском Халифате, анафематствовали иконоборцев.
 Григорий II Более опасный для целостности Империи характер приобрели события, которые произошли в Италии. Ревностным защитником икон выступил тогда папа Григорий II, первый природный римлянин после семи своих предшественников греческого и сирийского происхождения, и отчасти потому исключительно популярный в своей латиноязычной по преимуществу пастве. В ответ на адресованное ему послание Императора, в котором тот извещал его о мерах, принятых против почитания икон, и требовал проведения аналогичной кампании в Риме и во всей Италии, папа выступил как защитник икон и как обличитель иконоборца Льва III: «Ты пишешь, что не должно поклоняться творению рук и ‟всякому подобию, елика на небеси горе, и елика на земле низу” (Исх. 20, 4)... и говоришь: укажи мне, кто повелел нам почитать творения рук и поклоняться им... И я исповедую, что это есть законоположение Божие... Господь предупреждал и предограждал народ Свой, чтобы он не впал в... идолопоклонство»[9], но Сам Бог повелел изготовить изображения херувимов и серафимов, а уже во времена земной жизни Спасителя он послал князю Авгарю «святое славное изображение лица Своего. Пошли же за этим нерукотворным образом и посмотри. Туда стекаются во множестве народы Востока и приносят молитвы. Много есть и других рукотворных образов»[10], и не только Самого Христа, но и святых, и в пример папа приводит икону апостола Петра:
Григорий II Более опасный для целостности Империи характер приобрели события, которые произошли в Италии. Ревностным защитником икон выступил тогда папа Григорий II, первый природный римлянин после семи своих предшественников греческого и сирийского происхождения, и отчасти потому исключительно популярный в своей латиноязычной по преимуществу пастве. В ответ на адресованное ему послание Императора, в котором тот извещал его о мерах, принятых против почитания икон, и требовал проведения аналогичной кампании в Риме и во всей Италии, папа выступил как защитник икон и как обличитель иконоборца Льва III: «Ты пишешь, что не должно поклоняться творению рук и ‟всякому подобию, елика на небеси горе, и елика на земле низу” (Исх. 20, 4)... и говоришь: укажи мне, кто повелел нам почитать творения рук и поклоняться им... И я исповедую, что это есть законоположение Божие... Господь предупреждал и предограждал народ Свой, чтобы он не впал в... идолопоклонство»[9], но Сам Бог повелел изготовить изображения херувимов и серафимов, а уже во времена земной жизни Спасителя он послал князю Авгарю «святое славное изображение лица Своего. Пошли же за этим нерукотворным образом и посмотри. Туда стекаются во множестве народы Востока и приносят молитвы. Много есть и других рукотворных образов»[10], и не только Самого Христа, но и святых, и в пример папа приводит икону апостола Петра:
«Когда мы войдем в храм святого и первоверховного апостола Петра и увидим живописное изображение этого святого мужа, то приходим в сокрушение, и слезы наши льются, подобно каплям, падающим во время сильного дождя с неба»[11].
Окончательно отводя обвинение почитателей икон в идолопоклонстве, папа писал:
«Ты говоришь, что мы поклоняемся камням, стенам и доскам. Это не так, император… иконы служат нам только средством для напоминания; они пробуждают и возносят наш ленивый, неискусный и грубый ум в горний мир... Мы почитаем иконы не как богов... Мы не на них возлагаем надежды. Если пред нами находится икона Господа, мы говорим: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги нам и спаси нас! А если пред нами икона святой Его Матери, то мы говорим: Святая Богородице, Мати Господа, будь (нашею) заступницею пред Сыном Твоим, истинным Богом нашим... Если же икона мученика, например, Стефана, то говорим: святый Стефане, изливший кровь твою за Христа... будь нашим заступником... Вот куда воссылаем мы молитвы при посредстве икон»[12].
Император Лев требовал разрушить бронзовую скульптуру сидящего апостола Петра, которая почиталась как великая святыня и которая поныне находится в Ватиканском соборе, обращая на себя внимание стертой от бесчисленных лобызаний стопой. По этому поводу папа писал:
«Народы Запада большую надежду возлагают на нас и на того, чье изображение грозишь ты уничтожить, то есть на святого Петра, которого все западные царства почитают как бы земным богом»[13].
 Статуя Святого Петра Надо признать, рискованное выражение, тем более неудачное в полемике против тех, кто обвинял иконопочитателей в идолослужении.
Статуя Святого Петра Надо признать, рискованное выражение, тем более неудачное в полемике против тех, кто обвинял иконопочитателей в идолослужении.
Вразумляя и обличая Императора, Григорий II не сдерживался в гневе, прибегая к самым энергичным выражениям, вплоть до прямых оскорблений, невзирая на высокий сан адресата и на свое ему подданство: «Пишем тебе без научных приемов, по необходимости; так как ты человек неученый»[14], «ты соблазнил весь мир! как будто ты и не думаешь узреть смерть и дать за это злосчастный ответ»[15]; «мы… как имеющие право, власть и силу от святого верховного Петра, думали также наложить на тебя наказание; но так как ты сам наложил на себя проклятие, то и оставайся с ним»[16]; «Император, предоставь себе лучше называться еретиком, нежели гонителем и истребителем икон»[17]. В таком тоне не обращался к правителям Империи ни один из предшественников Григория II. Из дальнейших событий видно, что папа дерзнул бросить вызов Императору не из одной только исповеднической ревности, но и опираясь на монолитную поддержку римлян и значительной части населения всей Италии, включая даже и ту часть страны, которая находилась под властью лангобардов, в ту пору уже не ариан, но православных.
Папа напоминает Императору в своем послании, что «догматы Святой Церкви дело не Императоров, но архиереев... Для этого-то и поставлены в церквах архиереи, мужи, свободные от дел общественных»[18]. Во втором послании Льву он выражает ту же мысль самым радикальным образом: «Догматы – дело не царей, но архиереев, так как мы имеем ‟ум Христов” (2 Кор. 2, 14–17)... Воинственный, грубый и жесткий ум, каким ты обладаешь, приложим к делам управления мирского, но не приложим к делам управления церковного»[19]. Григорий II укоряет Льва также и за то, что тот, прежде чем затеять гонения на иконы, не посоветовался с Патриархом Германом, как со своим «отцом и учителем»[20].
Реагируя на угрозы Императора: «ты стращаешь нас и говоришь: ‟пошлю в Рим войско и истреблю икону святого Петра, а тамошнего архиерея Григория постараюсь привести связанным, как это сделал Констант с Мартином”[21] – это, конечно, не цитата из послания Императора, который не мог ссылаться, как на пример, достойный подражания, на расправу Императора-монофелита со святым исповедником Мартином, но полемически трансформированное резюме угроз, которые доходили до папы, – Григорий заверяет адресата, что эти угрозы его не пугают, и не потому только, что он не страшится страданий за истину, а еще и потому, что, опираясь на поддержку клира и паствы, ему легко будет скрыться от преследователей: «нам нет надобности вступать с тобой в сражение. Римский архиерей удалится за двадцать четыре стадии в страну Кампанийскую; и поди, гонись за ветрами»[22]. Но и о сражении епископ Рима упоминает не зря. Папская власть в Риме и в Италии, хотя и не сопряженная еще с официальным суверенитетом, в действительности приобрела уже тогда некоторые элементы власти мирской, политической, вплоть даже до способности в крайнем случае вести войну с Императором.
Столь оглушительной брани от епископов Рима Императорам слышать не доводилось
Правда, в своем втором послании Льву он писал, что у архиереев «нет ни оружия, ни панцирей, ни земного телесного воинства»[23], в то время как «ты, осудив сам себя и отогнав от себя Духа Святого, досаждаешь нам своей материальной, воинской силой и тирански мучаешь нас»[24], а «мы взываем к военачальнику всего творения Христу, седящему на небесах превыше воинств высших сил, чтобы Он послал на тебя демона»[25]. Столь оглушительной брани от епископов Рима раньше Императорам слышать не доводилось.
На грозные филиппики папы Император ответил угрозой его низложения.
«Тогда Григорий обратился к епископам и городам Италии с воззванием, призывавшим к восстанию против еретических замыслов Императора, и, как гласит книга пап, вооружился сам против Императора, как против врага»[26].
Этот призыв папы нашел отклик не в среде неорганизованных масс и не в виде военных заговоров – на защиту икон выступила существовавшая к тому времени в Риме и городах италийской Романии, в параллель с регулярными войсками Империи, муниципальная милиция, набиравшаяся из горожан. Эта милиция и стала на сторону папы в его конфликте с Императором, устраняя чиновников, присланных из Константинополя. К ревности об иконах примешивался национальный энтузиазм латинян-романцев против греков-ромеев, подспудное стремление к независимости Италии: хотя Империя и называлась по-прежнему Римской, но в Италии она все более стала восприниматься как орудие господства греков над латинянами. Города Истрии, Венетской области, Пентаполя (расположенные на берегу Адриатики Анкона, Римини, Пезаро, Синигалья и Фано) заявили о готовности защищать папу вооруженной рукой. Их поддержали затем города центральной Италии, Кампании и Калабрии. К сопротивлению готовы были и жители древней столицы Империи. Неспокойной была обстановка и в Равенне, где находилась резиденция имперского экзарха Италии. На помощь имперскому гарнизону Рима двинулся отряд во главе с дуксом Неаполя Эксгиларатусом, но на подступах к Риму он потерпел поражение в сражении с римской милицией и был убит.
Получив известие о мятеже, Лев III направил в Италию, к устью Тибра, военный флот и приказал высокопоставленным сановникам, находившимся в Риме, организовать тайное убийство папы, но римляне защитили своего епископа. Приказ не был выполнен; хартуларий Иордан, один из тех чиновников, на кого возлагалось деликатное поручение Императора, был убит возмущенной толпой, а дукс Рима Василий спас свою жизнь бегством и нашел убежище в монастыре. Военная власть в Риме перешла в руки городской милиции во главе с ее «судьями» (judices), а гражданская – к консулам, с признанием высшего авторитета в делах управления за епископом Рима. Когда в Равенну прибыл новый экзарх Павел, он направил в Рим для подавления мятежа войско, но оно было остановлено в Тоскане отрядами лангобардов, которые выступили как союзники папы.
 Святитель Герман Константинопольский Вскоре, однако, папа переменил политику. Лангобарды понадобились ему как противовес имперской власти, но, несмотря на их недавнее обращение в Православие, он вовсе не хотел, чтобы эти варвары овладели всей Италией, поскольку подспудно, перед лицом утраты имперского присутствия в стране, намечалась конкуренция между Лангобардским королевством и папским престолом в состязании за преобладание в Италии. Григорий II пошел тогда на примирение с Императором, юридически оставаясь его подданным.
Святитель Герман Константинопольский Вскоре, однако, папа переменил политику. Лангобарды понадобились ему как противовес имперской власти, но, несмотря на их недавнее обращение в Православие, он вовсе не хотел, чтобы эти варвары овладели всей Италией, поскольку подспудно, перед лицом утраты имперского присутствия в стране, намечалась конкуренция между Лангобардским королевством и папским престолом в состязании за преобладание в Италии. Григорий II пошел тогда на примирение с Императором, юридически оставаясь его подданным.
Примирение с папой, однако, не подвигло Льва Исавра на пересмотр иконоборческой политики. Он стоял на своем, вновь и вновь предпринимая попытки переубедить Патриарха Германа или заставить его взять сторону иконоборцев. В 730-м г. Император созвал силенций – заседание высших сановников, среди которых был и Патриарх. Феофан Исповедник писал об этом заседании: «7 числа января, 13 индиктиона, нечестивый Леон собрал совет против святых и досточтимых икон в трибунале 19 советников, на который призвал и святейшего Патриарха Германа, надеясь убедить его подписаться против святых икон. Но мужественный слуга Христов не только не поддался ненавистному злонамерению его, но, утверждая слово истины, отказался от епископства, сложил с себя омофор и произнес поучительные слова: ‟если я Иона, то бросьте меня в море. Без Вселенского Собора не могу изменить веры, государь”. После этого он удалился в местечко, называемое Платаниум»[27]. При изгнании из Патриаршей резиденции исповедник подвергся побоям.
В 730-м г. вышел эдикт Императора Льва об уничтожении икон
По указанию Императора Льва на место святого Германа был поставлен его синкелл Анастасий, который, как писал Феофан, «по сребролюбию своему... согласился с нечестием Леона»[28]. Именно тогда, в 730-м г., с согласия нового Патриарха Анастасия, и вышел первый и единственный эдикт Императора Льва об уничтожении икон. Иные версии, что это был второй эдикт после первого, изданного в 726-м г., либо что в 730-м г. вышел не императорский, а только церковный акт, воспрещавший почитание икон, не выдерживают критики «на основании однозначных свидетельств источников и убедительных аргументов»[29].
Папа не признал иконоборца Анастасия Патриархом Константинопольским. Но 10 февраля 731 г. Григорий II преставился. Его преемником был избран выходец из Сирии, основательно знавший родной сирийский, а также греческий и латинский язык, интронизованный 18 марта с именем Григорий III. Император надеялся, что с ним удастся уладить разногласия относительно икон, и в адресованном ему послании признал его епископом Рима – это был последний в истории акт утверждения папы Императором Нового Рима. Но Григорий III опрокинул надежды Льва на его уступчивость в отношении иконопочитания. 1 ноября 731 г. он созвал в Ватиканском соборе святого Петра Собор, в котором участвовали 93 епископа городов Италии, римские клирики и представители римской знати – так называемые консулы. Собор анафематствовал иконоборцев. Без упоминания имени Льва III, своим содержанием этот акт анафематствования касался и Императора. Это не значило, однако, что папа более не признавал Льва Исавра Императором. Формально он оставался его подданным и даже поддерживал добрые отношения с папским экзархом в Равенне Евтихием, который «принес в дар папе шесть драгоценных колонн из оникса... Григорий украсил ими исповедальню у апостола Петра. На эти колонны были наложены окованные серебром балки… а на них были укреплены чеканной работы изображения Христа, апостолов и других святых; очевидно, что это было сделано ради демонстрации против иконоборчества»[30].
Лев Исавр не намерен был мириться с обструкцией, которой подверг его новый папа. В 733-м г. он снова направил в Италию флот, чтобы заставить папу подчиниться или устранить его, но военные суда были разметаны штормом в Адриатике, и большая часть их экипажа и воинов погибла в морской пучине. Тогда Император прибег к другим мерам, чтобы нанести урон папскому престолу. Он «конфисковал все имения, принадлежавшие римской церкви в Калабрии и Сицилии и приносившие ежегодный доход в 35 000 золотых»[31].
В середине 730-х гг. острота гонений на иконы, вероятно, спала. Некоторые историки склонны преуменьшать масштабы иконоборческой кампании, развязанной Львом Исавром: так, по словам И. Д. Андреева, «в царствование Льва больше собирались преследовать иконы и иконопочитателей, чем преследовали на самом деле»[32]. А. А. Васильев полагал, что после издания эдикта 730 г. «источники молчат о преследовании икон; по-видимому, последнего не было на самом деле. Во всяком случае, о каком-либо систематическом гонении на иконы при Льве III не может быть и речи. Самое большее, что можно предположить, это отдельные факты преследования икон»[33]. Из сонма мучеников, пострадавших за почитание икон и причисленных к лику святых, лишь малая часть, а именно «40 человек приходится на период царствования Императора Льва... причем большинство из них погибло во время известного эпизода на площади Халки»[34]. Современный апологет Льва Исавра А. М. Величко пишет, что «подавляющее большинство возводимых на него обвинений оказалось надуманным или бездоказательным»[35]. По меньшей мере это сильное преувеличение.
Вопрос о причинах, побудивших Льва к гонениям на иконы, до сих пор остается дискуссионным. На поверхности лежит предположение о том, что Император пришел к иконоборческим убеждениям под влиянием ислама и иудаизма. Оно высказывалось как современниками Императора, так и историками. В пору ожесточенной полемики иконопочитатели называли своих противников «саракинофронес», то есть друзьями сарацинов, как называли тогда мусульман, на которых было перенесено наименование одного из племен бедуинов, кочевавших на границе Сирии и Аравии. Но Лев III, который вошел в историю не только как иконоборец, но и как успешный полководец в войнах с халифатом, сарацинофроном никак быть не мог. Предпринятые им меры к принудительному крещению евреев исключают и всякое подозрение его в юдофилии. Неубедительна и гипотеза о том, что он развязал гонения на иконы в миссионерских целях, чтобы устранить предубеждения тех мусульман и евреев, которые колебались в своих верованиях и тяготели к принятию учения Христа, но их смущало почитание христианами икон, представлявшееся тем и другим идолослужением. В. В. Болотов, отвергая подобное объяснение мотивов иконоборчества, заметил, что «мусульманам Крест был ненавистен не менее икон, а от Креста и поклонения ему иконоборцы никогда не отрекались»[36]. В наше время этот же аргумент о миссионерском пафосе иконоборчества, хотя и в ином ракурсе, был выдвинут протопресвитером Иоанном Мейендорфом: «И христианство, и ислам притязали на статус мировой религии... Но в психологической войне, которая сопутствовала конфронтации, ислам... неоднократно обрушивал обвинения в многобожии и идолопоклонстве на христианское учение о Троице и на употребление икон. Именно на это обвинение в идолопоклонстве и отвечали рожденные на Востоке Императоры VIII в. Они решили очистить христианство, с тем, чтобы оно лучше противостояло вызову ислама... В иконоборческом движении обнаруживается в какой-то мере и исламское влияние, однако влияние это было частью холодной войны против ислама, но никак не сознательным подражанием последнему»[37]. Упоминание холодной войны предлагает читателю аналогию с политическими и идеологическими реалиями второй половины XX века. Но если от туманных параллелей перейти к конкретным мотивам Императоров-иконоборцев, то довод В. В. Болотова о том, что они не посягнули на Крест, остается неотразимым.
Существовало почитание Нерукотворного Образа Христа Спасителя, с которого делались списки
Более метким представляется при этом упоминание протопресвитером Иоанном Мейендорфом восточного происхождения этих Императоров, только значение имело не то обстоятельство, что Лев Исавр родился в стране, пограничной с Халифатом, а что его религиозные взгляды сложились на почве христианского Востока, в мире, где интенсивно присутствовало сирийское и армянское христианство. «Ранняя Церковь, – писал протопресвитер Александр Шмеман, – не знала иконы в ее современном, догматическом значении. Начало христианского искусства – живопись катакомб – носит символический характер»[38]. Это и так, и не совсем так. Кроме символических изображений, известных более всего по римским катакомбам, существовало и почитание Нерукотворного Образа Христа Спасителя, с которого делались списки, очевидным образом относящиеся не к символическому, но к фигуративному искусству. И это были иконы, которые чтились христианами уже в апостольский век. В подражание апостолу Луке, запечатлевшему прижизненный образ Приснодевы Марии, уже в апостольский век писались и другие Богородичные иконы. Прижизненные портреты епископов, которые посмертно почитались как святые угодники, становились иконами после их прославления. По живым воспоминаниям о мучениках писались их иконы, становившиеся прототипами для позднейшей иконографии. Особенно широко иконы входили в жизнь Церкви, в самый быт христиан на исконной территории греко-римской цивилизации – в Элладе. На азиатском побережье Эгейского моря, в Италии, но также и в Египте с его мощной традицией погребальных портретов, которые, по месту обнаружения большей части из них, стали называться фаюмскими. Но в Восточной Анатолии, Армении, Сирии употребление икон не получило столь же широкого распространения.
Дело, однако, не только в географии. Отношение к почитанию икон зависело и от направления богословской мысли: оригеновский спиритуализм не был благоприятен для апологии иконописи и иконопочитания. Так, епископ Кесарии Палестинской Евсевий, по своим богословским взглядам последователь Оригена, в свое время на вопрос сестры Императора Константина Великого Констанции, где она может найти истинный телесный образ Христа, ответил, что «истинный образ Христа всякий должен носить в своем сердце»[39], тем самым выразив неодобрительное отношение к почитанию нерукотворного Образа Спасителя и списков с него. В своей «Церковной истории» он рассказал о бронзовой скульптурной группе в Кесарии Филипповой, представляющей Спасителя и исцеленную Им кровоточивую женщину, коленопреклонненную и протягивающую к Нему руки. «Нет ничего удивительного в том, что в старину язычники, облагодетельствованные Спасителем нашим, это делали. Я ведь рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и Самого Христа, написанные красками на досках, – и замечает далее с очевидным порицанием: – Естественно, что древние привыкли, особенно не задумываясь, по языческому обычаю, чтить таким образом своих спасителей»[40]. С одной стороны, это драгоценное свидетельство о существовании и почитании икон по меньшей мере в III столетии, а с другой, – в представлении оригениста Евсевия, написание и почитание икон – это языческий обычай, который проник в христианскую среду. «Имеются свидетельства, что богословские советники Льва III... тоже были оригенистами, с воззрениями... тождественными взглядам Евсевия»[41].
От Григория Великого идет воззрение на церковную живопись как на Библию для неграмотных
Есть основания утверждать, что почитание икон широко распространилось в Церкви в IV столетии, но при этом имелись разные и даже противоположные воззрения на иконы, которые, однако, не приводили к конфликтам. Можно по-разному интерпретировать содержание 36 канона Эльвирского (Гренадского) Собора, потому что запрещение помещать священные изображения в церквах мотивируется в нем заботой о том, чтобы святыни не были поругаемы язычниками, но в любом случае исполнение этого правила подразумевало отсутствие живописных или пластических священных образов в христианских храмах. Иконоборцем по своим воззрениям был святитель Епифаний Кипрский, известный как каталогизатор и обличитель ересей. В одном из своих посланий он писал, что когда он вошел в церковь в городе Анаблаты, вне пределов его епархии, он разорвал завесу, на которой был изображен Христос или один из святых, и отдал ткань, чтобы она была употреблена «в качестве погребального покрова на нищих. А вместо испорченной им ткани отдал в храм чистый кусок материи»[42]. Когда на Западе епископ Марсельский Серен, увидев в храме иконы, чтимые его паствой, велел выбросить их вон, что произвело большой соблазн в народе, папа Григорий Великий, до которого дошли сведения об этом скандале, направил ему послание, в котором «хвалил его за ревность, хотя и не по разуму, inconsideratum zelum, по которой он не потерпел поклонения неправильного, но порицал его за уничтожение икон, которые даны неграмотным людям вместо книги»[43]. В другом послании тому же Серену папа писал: «За то, что ты запретил поклоняться иконам, мы тебя вообще хвалим; за то же, что ты их разбил, порицаем... Одно дело поклоняться картине (picturam adorare), другое дело при помощи содержания картины узнавать то, чему должно поклоняться»[44]. Таким образом, от Григория Великого идет популярное на Западе в течение многих веков воззрение на церковную живопись как на своего рода Библию для неграмотных, в эпоху нового иконоборчества, развязанного протестантами, оказавшееся приемлемым для умеренных реформатов – лютеран и англикан.
Но учение о почитании икон, преподанное отцами VII Вселенского Собора и опирающееся на богословие иконы, разработанное преподобным Иоанном Дамаскиным, не отвергая дидактической значимости священных изображений, возводит иконопочитание на более высокий догматический уровень, рассматривая его как необходимое последствие Боговоплощения, что и ранее уже было выражено 82-м каноном Трулльского Собора:
«На некоторых честных иконах изображается перстом Предтечевым показуемый агнец, который принят во образ благодати, чрез закон показуя нам истинного Агнца, Христа Бога нашего. Почитая древние образы и сени, преданные Церкви, как знамения и предначертания истины, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение закона. Сего ради, дабы и искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ Агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представляти по человеческому естеству вместо ветхого агнца...».
Иконоборцы VIII столетия находили повод для устранения икон в суевериях их невежественных или прельщенных почитателей, которые и в самом деле порой склонны были к экстатическим проявлениям нездоровых религиозных чувств, когда объектом почитания становился не святой, изображенный на иконе, но сама икона как материальный предмет, материал, из которого изготовлен образ, краски, которыми он написан. В составленном через столетие после начала иконоборческой смуты послании Императора ромеев Михаила II Тралла западному Императору Людовику Благочестивому каталогизированы подобные суеверия: «Некоторые избирали иконы в восприемники своих детей... некоторые Тело Христово принимали в свои уста, положив его сначала в руки святых на иконах; другие служили на иконах вместо престолов в частных домах и пренебрегали богослужением, совершаемым в церкви; были священники, которые соскабливали краску икон, влагали ее в потир в Кровь Христову и этою смесью причащали народ»[45]. Подобные суеверия служили как Императорам из династии Исавров, так и инициаторам второй, рецидивной фазы иконоборчества лишь предлогом для гонений на иконы. Было бы абсурдно предполагать, что эти эксцессы явились действительной причиной кампании, развязанной Львом Исавром.
Самыми важными причинами его иконоборчества была среда, из которой он вышел, – христианский Восток, где почитание икон хотя и существовало, но не приобрело масштабов, сравнимых с теми, которые оно приобрело в столице Империи, в Элладе или в Италии, и, вероятно, в еще большей степени – присутствие в ближайшем окружении Императора богословов-оригенистов, к каковым мог принадлежать епископ Наколийский Константин – по, возможно, пристрастной характеристике Феофана Исповедника – «человек, исполненный всякой нечистоты, в невежестве живший», который «разделял с царем его нечестие»[46]; возможно, также епископ Клавдиопольский Фома и Иоанн Синадский, к которым святитель Герман обращался с посланиями по поводу их иконоборческих выходок еще до развязанных Львом Исавром гонений на иконы. Феофан упоминает еще одного советника Льва, некоего Висира, «родившегося от христиан в Сирии, отложившегося от веры во Христа (вероятно, по принуждению со стороны мусульман – В. Ц.), напоенного учением аравитян, и незадолго перед тем освободившегося от рабства и пришедшего в Римское царство (что, конечно, предполагало отречение от ислама – В. Ц.); но по телесной крепости и по сходству зломыслия он был в великом почтении у царя Леона и служил ему соучастником в сем великом зле»[47]. Никаких определенных сведений о его богословских воззрениях, кроме того только, что он был единомышленником Императора в иконоборчестве, нет, так что о его приверженности учению Оригена можно делать лишь предположения, основанные на контексте событий.
Генетическая связь иконоборчества с оригенизмом прослеживается отчетливо
Во всяком случае, генетическая связь иконоборчества с оригенизмом прослеживается отчетливо: «Иконоборцы выступали за лишенное образов умственное созерцание как единственный способ правильного поклонения Богу, следуя платонической эпистемологической традиции, введенной в христианский обиход Оригеном и систематически разработанной Евагрием Понтийским. Цитируя слова Христа о необходимости поклонения Богу ‟в духе и истине”, иконоборцы пытались оправдать очевидную для них противоположность поклонения ‟правильного” – умственного, без всяких образов, и ‟неправильного”, с их точки зрения, поклонения иконопочитателей – ‟идолослужения” чувственным материальным образам»[48]. В литературе, посвященной иконоборчеству, есть еще одна версия его генеалогии, лежащая в плоскости политической, государственной, более прямо – в зоне взаимоотношений Церкви и государства. В этом контексте речь идет о цезарепапистской идеологии иконоборцев, об их антиклерикализме и секуляризме. В. В. Болотов приводит аналогию иконоборчества с современным ему «Kulturkampf-ом» в Германии[49]. Сбрасывать со счетов подобный фактор не стоит, но бесспорным образом его присутствие обнаружилось не при Льве III, а при его сыне Константине Копрониме, который хотя и находил обоснование гонений на иконы в рамках богословской логики, но обнаруживал плохо скрываемый для виду религиозный индифферентизм, если не сказать безверие, выливавшееся в жестокие эксцессы циничной монахомахии в дополнение к ожесточенной и раздраженной иконофобии. В его ментальном и психологическом облике и в его религиозной политике в концентрированном виде обнаруживаются черты, замашки и приемы, напоминающие германского Императора Фридриха II Гогенштауфена, реформатора Английской Церкви Генриха VIII, Петра Великого, и, если минимизировать масштаб, – Александра Кузы. Константин V – не Лев Исавр, но он был сыном и соправителем своего отца, и многое из того, чему он от него научился, не проявившись столь ярко при отце, расцвело пышным цветом при сыне.