Сайт «Православие.Ру» продолжает публикацию фрагментов новой книги церковного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской».
Основание Константинополя
 П.П.Рубенс "Основание Константинополя" Наравне с изданием Миланского эдикта и созывом Вселенского собора в Никее третьим важнейшим деянием императора Константина стало создание новой столицы империи – на Босфоре, на месте древнего Византия, – названной в честь своего основателя Константинополем, именуемым также и Новым Римом, ибо этот город стал новым центром Римской империи – со времен Константина уже христианской эйкумены.
П.П.Рубенс "Основание Константинополя" Наравне с изданием Миланского эдикта и созывом Вселенского собора в Никее третьим важнейшим деянием императора Константина стало создание новой столицы империи – на Босфоре, на месте древнего Византия, – названной в честь своего основателя Константинополем, именуемым также и Новым Римом, ибо этот город стал новым центром Римской империи – со времен Константина уже христианской эйкумены.
Сразу после собора Константин отправился в паломничество в Палестину. Вернувшись в Никомидию, он стал готовиться к отъезду на Запад. В начале 326 года он вместе со всей семьей, кроме матери – святой Елены, находившейся тогда на Святой Земле, выехал в Италию, чтобы отпраздновать 20-летие своего правления в столице империи. Путь в Рим лежал через Наисс, где он явился на свет, Сирмий, Аквилею и Медиолан.
В столицу Константин прибыл в июле. В Риме он столкнулся с плохо скрываемым недовольством языческого большинства сенаторов его новой религиозной политикой. Константин принял вызов. 15 июля в честь его приезда состоялось традиционное торжественное шествие от храма Кастора и Поллукса на Форуме до храма Марса за городским померием, и поскольку оно сопровождалось жертвоприношением, сам Константин отказался участвовать в нем, тем самым откровенно обнаружив свою приверженность христианству. Этот его поступок вызвал раздражение у римских граждан, большинство которых оставалось язычниками. Римляне задеты были и тем, что Константина окружали выходцы с востока империи. Комментируя нарастание напряжения, биограф императора Дж. Бейкер писал: «В день шествия император и его приближенные были лишь заинтересованными наблюдателями, но не участниками торжеств. Римляне уже посмеялись над их одеждой из шелка и атласа. Теперь пришел их черед напомнить римлянам, что люди в шелках и атласе – старые профессиональные воины, которые не могут удержаться от соблазна посмеяться над римскими воинами-любителями… “Любители” были в ярости… Этот инцидент вызвал столь резкую реакцию, что императорский двор в Риме оказался практически в полной изоляции. Сам Константин не мог пройти по улицам города без того, чтобы не оказаться объектом нападок со стороны прохожих»[1].
На императорском совете, созванном в связи с устраиваемой Константину обструкцией, предлагалось применить оружие для предотвращения открытого мятежа. Император, однако, не находил ситуацию опасной для его власти, понимая, видимо, неготовность и неспособность фрондирующих римлян к вооруженной борьбе. Поэтому, как пишет Дж. Бейкер, когда «некий придворный сообщил: “Статую императора забросали камнями и разбили ей голову”… Константин провел по голове и произнес: “Нельзя сказать, чтобы я это заметил!”»[2]. И все же, при всем его великодушии и благодушии, обстановка вокруг него становилась нервозной.
В этой ситуации произошли драматические события в императорской семье. Вначале старший сын августа Крисп был сослан в истрийский город Полу и там вскоре убит, а затем его мачеха Фауста погибла, обварившись в горячей воде в ванной. И это был не несчастный случай, но убийство, учиненное, вероятно, по вынесенному ее мужем смертному приговору. Документальные сведения об этих трагических событиях крайне скудны. О них молчат биограф Константина Евсевий и другой церковный историк, Лактанций, который был наставником казненного по указанию отца Криспа. Более поздний историк Зосим, сообщающий об этих насильственных смертях, не заслуживает особого доверия ввиду враждебного отношения к святому Константину. У других древних авторов есть лишь отрывочные сведения о происшедшем.
Трагические события, поразившие императорскую семью, могут быть реконструированы приблизительно в таком виде: популярность Криспа, оказавшегося талантливым полководцем, в войсках и расположение к нему отца вызывали у Фаусты тревогу за участь собственных сыновей Констанция, Константина и Константа, и, чтобы обеспечить их будущее, она, унаследовавшая у своего отца Максимиана отчаянно-смелый и авантюрный характер, решила действовать немедленно и самым рискованным способом. 20-летний юбилей правления Константина, в известном смысле бывшего наследником Диоклетиана, давал повод обвинить возмужавшего Криспа в том, что он лелеял надежду, что, по примеру Диоклетиана, передавшего верховную власть Галерию и Констанцию Хлору после 20 лет правления, Константин также отойдет теперь от дел, но, сосредоточив полноту власти в собственных руках, восстановив в империи единодержавие, он всю ее уступит старшему сыну. Когда же выяснилось, что Константин вовсе не собирается уходить, то Крисп будто бы решил прибегнуть к насильственным действиям, попытавшись вовлечь в заговор мачеху, которой предлагалось поменять мужа, выбрав вместо отца его юного сына. Константин поверил клевете, тем более что в свое время Фауста ради спасения жизни мужа пожертвовала отцом, сообщив о замышляемом им покушении на Константина. Человек доверчивый, при суждении о людях замечавший, прежде всего, их лучшие качества, что немало способствовало его популярности, Константин прибегал к самым решительным, если не сказать – скоропалительным, действиям, когда убеждался в том, что его доверием злоупотребляют во вред, тем более когда предают его самого. И на этот раз жертвой его гнева вначале пал оклеветанный сын Крисп, к которому он испытывал ранее безграничное доверие, а затем – его мачеха, коварство которой открылось ему, поверженному в горе из-за смерти сына, вдовой Криспа Еленой, которая была дочерью свергнутого императора Лициния. Есть сведения, что обличению преступной клеветы способствовала и горько оплакивавшая любимого внука другая Елена – святая мать императора. В том же году был умерщвлен также сын Лициния и пасынок сестры Константина Констанции – подросток Лициниан, об обстоятельствах гибели которого фактически ничего не известно.
В конце 326 года император покинул Рим и отправился на Восток. Открыто выражаемая неприязнь римлян и плохо скрываемое недружелюбие бессильного, но почтенного, ввиду своей древности, римского сената, семейная драма, разыгравшаяся в этом городе, – все это укрепляло Константина в решимости поменять столицу империи. Первый шаг к этому сделан был уже Диоклетианом, устроившим свою резиденцию в Никомидии. С тех пор местами пребывания императоров бывали разные города, а точнее говоря, военные лагеря, расположенные в этих городах или поблизости от них, так что подобными временными и неофициальными столицами служили, помимо Никомидии, Сирмий на Балканах, Медиолан в Италии, Трир на Рейне и Эбурак (Йорк) в Британии. Между тем, еще со времен Антонинов центр тяжести империи – экономический и демографический – переместился из Италии на Восток, а в культурном отношении грекоязычные провинции доминировали со времени их завоевания Римом. Римская элита давно уже стала двуязычной, одинаково хорошо владея и родной латынью, и греческим языком. Самые опасные военные угрозы также находились на Востоке. Сильнейшим и потому главным противником Рима в течение многих веков была Парфия, которая с воцарением Сасанидов сбросила с себя вместе со свергнутой династией эллинистическую оболочку и вновь стала Ираном.
С Никомидией у императора связаны были грустные воспоминания о своем почетном заложничестве при дворе Диоклетиана и затем об угрожавшей ему там смертельной опасности, когда властителем восточной части империи стал Галерий. Латиноязычный иллириец по рождению, Константин одно время собирался устроить новую резиденцию в Сардике (современной Софии), расположенной вблизи его родного города Наисса. Но стратегические соображения побудили его искать место для новой столицы дальше на восток. Одним из вариантов рассматривались Фессалоники, но это был большой город, который мог быть лишь приспособлен к новой для себя роли, а идея Константина заключалась в том, чтобы создать город, который бы не нес на себе несмываемой печати прошлого. Это был замысел, подобный тому, который 14 столетий спустя на севере Европы осуществил другой великий реформатор. Возникла идея воздвигнуть новую столицу на месте к тому времени уже ушедшей в землю Трои, овеянной древними героическими воспоминаниями, где при этом ничто не мешало строить совершенно новый город на месте, лишенном застройки. Эта мысль подкреплялась и официальным мифом о происхождении римлян от бежавшего из горящей Трои Энея, так что перенос столицы из Италии на Восток представал в архаико-мифологическом воображении как возвращение римлян на свою исконную родину. Но пассеистские мечты, к тому же замешанные на языческих древностях, уступили место трезвым стратегическим соображениям реального политика. На какое-то время внимание Константина задержалось на небольшом городке, расположенном на азиатском берегу Мраморного моря, вблизи Босфорского пролива – Халкидоне, и наконец сделан был идеальный выбор – европейский берег Босфора, город Византий, в прошлом значительный, но пришедший в упадок после ряда разорений, которым он подвергся в войнах последних столетий, особенно при Септимии Севере, приказавшем, правда, его восстановить, но и в заново отстроенном виде он не мог сравниться с тем городом, который был разрушен этим императором.
Византий расположен был в самом узле коммуникаций, связывавших припонтийский север с восточным Средиземноморьем, а также, в перекрестном направлении, – Европу с Азией. Глубокая бухта Золотого Рога, к которой он примыкал, с одной стороны, представляла несравненные возможности для устройства в ней торгового порта и военно-морской базы, а с другой – могла превосходным образом защищать город, который с трех сторон окружен был морской водой: Мраморным морем, или Пропонтидой, Босфором и самим этим Золотым Рогом, так что оставалась лишь одна из трех сторон, где город соприкасался с сушей и где поэтому с несравненно меньшими затратами, чем, например, в Риме, можно было выстроить крепостную стену, протяженность которой, если бы новая столица осталась в пределах древнего Византия, могла бы составлять не более 1 километра. Но, разумеется, новый город с совсем иным назначением, чем прежний, занял гораздо больше пространства, и впоследствии распространялся в западном направлении, в котором расстояние между морем и Золотым Рогом увеличивалось, в связи с чем не раз после Константина строились новые стены, более протяженные, чем оставляемые позади них. Более того, городские укрепления воздвигнуты были и там, где защитой служили уже самые морские воды, но в результате их построения эта защита становилась тем более непреодолимой, так что в течение без малого девяти столетий, прошедших со времени основания новой столицы империи, ее бесчисленным врагам, много раз осаждавшим Новый Рим, ни разу не удалось его взять.
Константинополь расположен на холмистой местности, пересеченной долиной, которая проходит от Золотого Рога до Мраморного моря. Поскольку город назван был Новым Римом, в нем, по подобию столицы империи на Тибре, также, с известной долей условности, насчитывали семь холмов, лишь один из которых занимал древний Византий, что дает представление о масштабах градостроительного деяния, предпринятого императором. К западу от города высота местности над уровнем моря повышалась, приобретая уже горный вид. На северо-запад от Константинополя лежат Родопы, представляющие собой южную и самую высокую цепь Балканских гор.
Новую столицу империи заложили в местности с исключительно благоприятным климатом: теплым, но не жарким – со средней температурой января около 6, а июля – около 24 градусов. Продуваемый с разных сторон, особенно часто черноморскими ветрами, город не знает изнурительной жары даже в самое теплое время года. Зимой температура редко опускается ниже нуля, снег временами идет, но сразу тает; осень бывает долгой, мягкой и сухой; дожди чаще выпадают зимой и весной, которая быстро превращается в теплое, но не жаркое лето.
4 ноября 328 года – по местному греческому календарю шел первый год 276 олимпиады – совершена была закладка новой столицы, сопровождавшаяся как христианским богослужением, так и языческими церемониями, включавшими предварительные ауспиции и затем инаугурацию, которую возглавил иерофант Претекст – некоторые историки, в частности Я. Буркхард[3], называют его великим понтификом, но это недоразумение, поскольку эту должность, высшую в римской сакральной иерархии, со времен Цезаря и Августа занимал император. Роль эллинского жреца, телесты, выполнил при закладке Нового Рима философ неоплатонической школы Сопатр, которого в ту пору приблизил к себе Константин. Существует предание, известное из сочинения продолжателя «Церковной истории» Евсевия арианина Филосторгия, что, когда императора, который «шел с копьем в руке, обозначая новую границу города, и шел все дальше и дальше, один из тех, кто его сопровождал, спросил: “Как далеко хочешь ты уйти, господин?”, тот ответил: “Пока не остановится Тот, Кто идет впереди меня”». У Филосторгия этот диалог нашел осмысление в христианском контексте.
После закладки города началось интенсивное строительство, и, когда выстроены были основные сооружения, 11 мая 330 года состоялось его освящение. Параллельные христианскому богослужению, совершенному святым Александром, епископом этого города с 325 по 340 год, языческие церемонии исполнялись и на этот раз, но без особой пышности и без присутствия на них Константина, допущенные лишь из уважения императора к религиозной свободе язычников, которые, на основании Миланского эдикта, имели одинаковые права с христианами. Но в этот день давались блестящие цирковые игры, увлеченным зрителем которых был и сам император. В канун торжеств языческий философ Канонарид «прилюдно прокричал императору: “Не пытайся возвыситься над нашими предками, ибо ты обратил наших предков… в ничто!” Константин заставил философа приблизиться и стал убеждать его отказаться от этой апологии язычества, но тот воскликнул, что хочет умереть за своих предков, и был… обезглавлен»[4].
Впоследствии 11 мая каждый год в Константинополе совершались праздничные торжества, когда горожане стекались на ипподром, на котором устраивалось грандиозное шествие: на триумфальной колеснице везли колоссальную статую Константина из позолоченного дерева, в левой руке у нее было изображение Тихе, на лбу которой виден был крест, что давало возможность христианского осмысления этого образа. Процессия сопровождалась эскортом солдат в парадных мундирах, и все они несли горящие факелы. Зрители, к которым приближалась колесница, склонялись в глубоком поклоне. Автократоры, преемники Константина, когда триумфальная колесница со статуей основателя города двигалась мимо императорской ложи, вставали и также делали поклон.
В центре новой столицы устроен был так называемый «мильный столб», подобный тому, что стоял на республиканском форуме древнего Рима, и служивший точкой отсчета расстояний по всем дорогам, ведущим из города, – главными были маршруты на Адрианополь и Фессалоники. Это была площадь, окруженная со всех сторон четырьмя триумфальными арками. В 500 метрах к югу от «мильного столба» был устроен гигантский ипподром, в центре которого была воздвигнута «змеиная колонна», привезенная из Дельф, – она служила там подставкой для золотого треножника, сооруженного за счет союзных греческих полисов, одержавших победу над персами при Платее. Колонна, сохранившаяся поныне, представляет собой три бронзовых змеиных туловища, свившихся в спираль.
Винтовая лестница вела из ипподрома в расположенный с его восточной стороны императорский дворец, в комплекс которого входили также военные казармы и плацы. Позже, при сыне Константина Констанции, вблизи дворца была сооружена христианская церковь в честь Премудрости Божией – Святая София, два столетия спустя, при Юстиниане, подвергшаяся радикальной перестройке. Неподалеку выстроено было грандиозное подземное хранилище дождевой воды, получившее название «цистерны 1001 колонны».
На полпути от «мильного столба» до дворца находилась рыночная площадь Византия, переименованная в Августейон. На ней выстроены были языческие храмы в честь покровительницы Византия богини Реи и богини судьбы Тихе, считавшейся защитницей Рима – Тихейон. На Августейоне находился христианский храм, построенный ранее основания новой столицы и по повелению Константина значительно расширенный и посвященный Божественному Миру Ирине. (Во времена султанов храм служил военным складом и дошел до наших дней.) За Божественной литургией, совершенной в этой церкви 11 мая, присутствовал святой Константин. От этой литургии и берет начало официальная история Константинополя. Много других христианских церквей, существовавших некогда в Новом Риме, но потом утраченных, восходит ко временам Константина; о них, однако, нет точных сведений, но число их, несомненно, многократно превосходило количество языческих храмов новой столицы, из которых, помимо уже упомянутых, известен еще храм Диоскуров, построенный вблизи цирка.
На запад от «мильного столба» шла главная улица столицы Месса. На пересечении этой улицы, существовавшей еще в древнем Византии, с крепостной стеной, выстроенной при Септимии Севере, был разбит форум – площадь овальной конфигурации, отделанная мрамором, в центре которой была поставлена порфирная колонна высотой более 30 метров, доставленная из египетского Гелиополиса. В цоколь колонны вложили христианские реликвии, и среди них сосуд с миром Марии Магдалины, а на верху колонны была водружена созданная Фидием статуя Аполлона, голова которой была заменена портретным изображением императора Константина в ореоле из солнечных лучей. В правой руке он держал скипетр, а в левой – державу с частицей Креста Господня, обретенного святой Еленой в Иерусалиме.
Город окружен был померием – земляным валом и крепостной стеной, которая, по описанию Ф.И. Успенского, опиравшегося на современную ему топонимику, «от Золотого Рога к Мраморному морю… шла в направлении к юго-западу, пересекая большую улицу, существовавшую и в древности под именем Месса… между цистернами Аспара и храмом святых апостолов, затем склонялась к югу, проходя мимо цистерны Мокия, и доходила до моря в местности между Псаматией и Дауд Паша-капуси, неподалеку от древнего монастыря Перивлепта, или Сулу-монастыря»[5]. Вне городской стены, на северном берегу Золотого Рога, были выстроены казармы для 7 тысяч готских воинов, находившихся на службе императора. При Константине значительная часть города оставалась еще незастроенной, тем не менее сооруженные при нем постройки далеко выходили за черту древнего Византия.
По распоряжению императора новая столица украшена была многочисленными статуями, доставленными из разных городов империи, главным образом из Эллады и Ионии, но также и из Рима, откуда привезли скульптуры императоров. Там, где при Констанции был воздвигнут храм Святой Софии, перестроенной святым Юстинианом, установлено было 427 статуй. Едва ли не большую часть из них составляли изображения языческих божеств, но в Константинополь их переносили не для поклонения, а для того чтобы они украсили город. Исключительно эстетическое восприятие античной пластики и всего вообще искусства языческой древности, столь характерное для Нового времени, восходит к тому концепту имперской столицы, который принадлежит первому христианину в чреде императоров Рима. Среди скульптур, перемещенных в Новый Рим, были и настоящие шедевры: Зевс из Додоны, Афина из Линдоса и даже статуи Фидия и Лисиппа. До нас из всех этих шедевров дошли, правда, уже не в Константинополе, разграбленном крестоносцами в 1204 году, а в Венеции, четыре бронзовых коня – прекрасный образец античного литья.
Построив новую столицу империи, Константин наделил этот город статусом, подобным тому, который имел ранее и формально сохранил после появления соперницы на Босфоре исконный Рим. Город изъят был из провинции Европы и Фракийского диоцеза, в которые ранее входил Византий. Подобно Риму, он освобождался от поземельной подати, а его граждане – от налогов на тех же основаниях, что и римляне. Малоимущим горожанам бесплатно выдавалось зерно за счет фиска. Обыватели Нового Рима стали называться одинаково с теми, кто проживал в исконном Риме, – римлянами. Правда, поскольку их родным языком в значительном большинстве случаев был не латинский, а греческий, получалось не romani, но ромеи. И этот юридический и политический термин, став этнонимом, вскоре распространился на всех грекоязычных граждан и подданных Римской империи, вытеснив древнее самоназвание «эллины», которое сохранилось для обозначения язычников, противопоставляемых настоящим ромеям – христианам, принявшим религию, ставшую со временем государственной. Правда, греческий язык не был при этой терминологической метаморфозе переименован в ромейский, оставшись эллинским, подобно тому как и язык исконных римлян не назывался римским, но всегда оставался латинским.
Подобно Риму, Константинополь был разделен на такое же число муниципальных округов – 14, из которых 12 располагались внутри стен, а два других – вне их. Городской архонт был удостоен Константином звания проконсула, одинакового с правителями наиболее важных провинций. Со стороны титулярной равенство Нового Рима с древним наиболее выразительным образом символизировало учреждение в нем сената, в который был преобразован прежний городской совет Византия – курия, или по-гречески, буле, но в который включались также и сенаторы, по приглашению императора переселившиеся в Новый Рим. Первоначально он состоял из 300 лиц, титуловавшихся, правда, в отличие от римских сенаторов, не clarissimi (сиятельнейшие), а только clari (сиятельные). Для сената сооружена была курия, а в новой столице и ее окрестностях выросли дворцы и виллы состоятельных сенаторов. В городе поселились также многочисленные чиновники, в значительной части перемещенные из Рима. Официальным и деловым канцелярским языком империи, в том числе и учреждений, находившихся в Константинополе, оставалась латынь, и такое положение продолжалось еще в течение трех столетий. В Новый Рим и по воле императора, и по собственному выбору переселялись сенаторы и чиновники, ставшие христианами, либо, по меньшей мере, чуждые языческих предубеждений против христиан. В результате в Новом Риме складывались условия, благоприятные для его становления как столицы христианской империи, в то время как римский сенат превращался, благодаря привилегиям сенаторов, защищавшим их от чрезмерно энергичного воздействия на их религиозную совесть, наряду с философскими школами и деревенской глубинкой, одним из последних заповедников язычества.
При содействии правительства в Константинополь переселялись выходцы из окрестных городов. Численность городского населения стремительно росла. На рубеже IV и V столетий, во времена святителя Иоанна Златоуста, в нем проживало до 100 тысяч христиан. По меньшей мере, насчитывалось еще не менее 50 тысяч язычников и иудеев. В V веке Новый Рим превзошел по численности населения Рим ветхий, к тому времени пришедший в упадок, и уступал тогда, наверное, только Александрии и, возможно, Антиохии, со временем опередив и их и став крупнейшим мегаполисом Средиземноморья.
Империя под властью святого Константина
 Равноапостольные Константин и Елена. Мозаика Исаакиевского собора, Санкт-Петербург. Совершив колоссальный по своим всемирно-историческим последствиям переворот в религиозной политике, император Константин в области государственного строительства явился творческим продолжателем реформ, начатых Диоклетианом. Завершая финансовую реформу Диоклетиана, он ввел в обращение новую золотую монету – статир, явившуюся эффективным средством борьбы с инфляцией. В 327 году вышел указ, не допускавший отсрочек в платежах должников в фиск. Куриалы, отвечавшие своим имуществом за поступление налогов от городов, которыми они управляли, лишены были права оставлять свои должности, которые практически стали наследственными и скорее обременительными, чем почетными. На состоятельных покупателей земельных участков разорившихся владельцев возлагалась ответственность за недоимки казне, которые оставались за продавшими эти участки бедняками. Лица, нашедшие клады, обязаны были половину их отдавать в казну. Суровым преследованиям подвергались вымогатели и лихоимцы – наказанием для вымогателей было сожжение на костре. Зато покровительство оказывалось ремесленникам и специалистам: врачи, учители, архитекторы и их родители – мастера 35 видов ремесел – освобождались от податей. Бедных родителей, чтобы предотвратить детоубийство, Константин велел снабжать одеждой и пищей. Защищая крестьян от эксплуатации, он запретил отбирать крестьянских лошадей для почтовых нужд, не разрешал в страдную пору привлекать крестьян к исполнению чрезвычайных государственных повинностей; запрещено было также брать в залог скот и рабов, занятых в сельском хозяйстве.
Равноапостольные Константин и Елена. Мозаика Исаакиевского собора, Санкт-Петербург. Совершив колоссальный по своим всемирно-историческим последствиям переворот в религиозной политике, император Константин в области государственного строительства явился творческим продолжателем реформ, начатых Диоклетианом. Завершая финансовую реформу Диоклетиана, он ввел в обращение новую золотую монету – статир, явившуюся эффективным средством борьбы с инфляцией. В 327 году вышел указ, не допускавший отсрочек в платежах должников в фиск. Куриалы, отвечавшие своим имуществом за поступление налогов от городов, которыми они управляли, лишены были права оставлять свои должности, которые практически стали наследственными и скорее обременительными, чем почетными. На состоятельных покупателей земельных участков разорившихся владельцев возлагалась ответственность за недоимки казне, которые оставались за продавшими эти участки бедняками. Лица, нашедшие клады, обязаны были половину их отдавать в казну. Суровым преследованиям подвергались вымогатели и лихоимцы – наказанием для вымогателей было сожжение на костре. Зато покровительство оказывалось ремесленникам и специалистам: врачи, учители, архитекторы и их родители – мастера 35 видов ремесел – освобождались от податей. Бедных родителей, чтобы предотвратить детоубийство, Константин велел снабжать одеждой и пищей. Защищая крестьян от эксплуатации, он запретил отбирать крестьянских лошадей для почтовых нужд, не разрешал в страдную пору привлекать крестьян к исполнению чрезвычайных государственных повинностей; запрещено было также брать в залог скот и рабов, занятых в сельском хозяйстве.
В то же время конституцией 332 года Константин в интересах фиска запретил переход арендаторов-колонов из одного имения в другое. Землевладелец, принявший чужого колона, не только должен был вернуть его прежнему арендодателю, но и заплатить за него подати, полагавшиеся фиску за весь срок его незаконного укрывательства. «Самих же тех колонов, – было сказано в законе, – которые вздумают бежать, надлежит заковывать в кандалы, как рабов, чтобы в наказание заставить их рабским способом исполнять обязанности, приличествующие свободным людям». По существу дела это был акт, прикреплявший колонов, которые тогда составляли значительную часть крестьянства, к земле, подобный тем, что издавались в России в XVII веке, хотя при этом, как это видно из конституции, юридически колоны оставались свободными людьми.
Власть императора, сохраняя военную основу, заключавшуюся в верховном командовании вооруженными силами государства, подверглась традиционной для эллинистического Востока сакрализации. Но если при Диоклетиане эта сакрализация имела под собой зыбкую почву, потому что включенные в имперский государственный организм элементы римского правосознания отторгали прямое и откровенное обожествление правителя по подобию египетских фараонов, а прикровенные формы такого обожествления, включая титулование императора господином (dominus) представляли собой неубедительный и не вызывавший особого доверия двусмысленный компромисс, то при святом Константине эта сакрализация обрела твердое основание. Император не объявлялся богом, потому что он не был богом, ибо Бог один и Он Творец неба и земли, но власть императора становилась богоданной и Богом благословенной и в этом смысле священной. Эта идея, отражающая реальное положение дел, легла в основание самой идеи христианской монархии и обнаружила поразительную функциональность в течение последовавших веков европейской истории.
В связи с этим все, что имело тесное соприкосновение с особой императора, при Константине стало именоваться священным или, что то же, сакральным. Так, одним из высших должностных лиц государства стал препозит священной спальни (praepositus sacri cubiculi). Эту должность обыкновенно занимали евнухи. Одинаковым с ним рангом vir illustris (сиятельный муж) обладал начальник служб (magister officiorum), что соответствовало гофмаршалам позднейших европейских дворов. Высший ранг vir illustris имели также правитель императорских имений, или сальтусов (comes rerum privatоrum); министр финансов (comes sacrarum largitionum), в ведении которого находилась государственная казна – aerarium sacrum, а также все фабрики и мастерские; квестор, являвшийся секретарем императора и его главным советником по законодательству (quaestor sacri palatii), и два начальника дворцовой стражи (comites domesticorum): один из них командовал конной, а другой – пешей гвардией. Высшие сановники империи имели титул comes (комит) – спутник, или друг, императора. При этом они разделялись на два ранга – comites primi ordinis и comites secundi ordinis. Комиты второго ранга назывались viri spectabilеs (высокородные мужи). К их числу принадлежали «примицерий священной спальни (primicerius sacri cubiculi), примицерий нотариев (primicerius notariorum), castrensis sacri palatii, ведавший дворцовыми работами и различными службами, и четыре начальника канцелярий (magister scriniorum)»[6]. Нижестоящие сановники именовались notarii. Весь штат придворных чинов и имперских канцелярий именовался «дворцовым войском» (militia palatina). Священным назывался и высший государственный совет – sacrum consistorium, еще при Диоклетиане заменивший совет принцепса – consilium principis. Каждый высокопоставленный сановник имел свою канцелярию – officium. Чиновники, включенные в штаты этих канцелярий, именовались agentes in rebus, среди них числились также агенты тайной полиции – так называемые curiosii, в буквальном переводе – «любопытные».
В 335 году своими соправителями с титулами цезарей Константин Великий назначил трех сыновей, родившихся от Фаусты, – Константина, Констанция и Константа, а позже, когда в 336 году праздновался 30-летний юбилей его правления, такого же титула был удостоен его племянник – сын его единокровного брата Далмация, носивший отцовское имя, младший же брат юного Далмация, Ганнибалиан, помолвленный с дочерью Константина Константиной, не только стал цезарем, но и был направлен правителем Понтийского диоцеза с заимствованным у персов титулом царя царей. Но августом оставался лишь сам Константин, сохранивший основы административного устройства империи, но упразднивший оказавшуюся нежизнеспособной и чреватой гражданскими войнами тетрархию. Разделение имперской территории на четыре префектуры при нем сохранилось. Только теперь они находились под управлением четырех гражданских чиновников – префектов претория, лишенных военной власти и подчинявшихся цезарям, которые, однако, во-первых, были членами семьи августа, а во-вторых, не обладали самостоятельностью прежних тетрархов, во всем подчиняясь императору, тем более что они были еще слишком юны и неопытны: младший из них, Констант, даже не вышел еще из детского возраста.
Резиденция префекта Галлии находилась в Августе Треверов (Трире), Италии – в Риме, Иллирика – в Сирмии, а резиденция префекта Востока была переведена из Никомидии в Константинополь. Имперские столицы Рим и Новый Рим были выделены в особые административные единицы, которыми управляли praefecti urbis. Префекты причислялись к первому рангу сановников – viri illustrеs. Префектуры, в свою очередь, делились на 12 диоцезов, во главе которых стояли викарии, или, по-гречески, экзархи. Властные полномочия викариев как заместителей префектов имели ту особенность, что они приостанавливались на время пребывания на территории диоцеза самого префекта. Викарии по государственной табели рангов принадлежали ко второму классу – высокородным мужам viri spectabilеs.
Галлия включала в себя следующие диоцезы: Британию, собственно Галлию с галльскими и германскими провинциями, а также Испанию с Мавританской провинцией на Африканском континенте. Префекту Италии подчинялись викарии Италии, Иллирика, включавшего иные провинции, чем префектура Иллирик: Далмацию, Паннонию и Норик, а также викарий Африки. Префектура Иллирика состояла из Македонского и Дакийского диоцезов, а в префектуру Востока входили следующие диоцезы: Фракия (восточная оконечность Балканского полуострова с центром в Ираклии), на территории которой находилась и новая столица империи – Константинополь; Понт, занимавший северо-восточную часть Малоазийского полуострова и Армянское нагорье; Восток, или Сирия, и Египет. Викарий Востока имел титул комита, а викарий Египта именовался префектом августалом. Помимо Рима и Константинополя, из подчинения префектам были также выведены подчиненные непосредственно императору провинции Азия, проконсульская Африка и Ахайа, управлявшиеся комитами первого ранга (comites primi ordinis).
Провинциями при Константине управляли подчиненные викариям ректоры, которые имели титулы президов, корректоров, а также проконсулов. Ректоры причислялись к третьему рангу по табели – светлейших мужей (viri clarissimi), кроме проконсулов, которые приравнивались к викариям и причислялись поэтому ко второму классу сановников.
Император Константин завершил военную реформу, начатую Диоклетианом. Он упразднил и распустил преторианскую гвардию, которую в ее роли охраны особы императора и дворца заменила свита императора (protectores domestici) и дворцовая стража (auxilia palatina). Двор императора являлся заодно ставкой верховного главнокомандующего и назывался comitatus, поэтому состоявшие при ней высшие военные чины именовались comites – спутники, или друзья. Впоследствии, в средневековье, из звания комита в результате сложной эволюции сложился графский титул – по-французски сomte, но по своему действительному положению комиты Константина напоминали генерал-адъютантов из свиты российских императоров.
Армия при Константине была окончательно разделена на пограничные (limitanes) и превосходившие их числом и уровнем боевой подготовки мобильные войска (comitatenses), расквартированные в городах и лагерях, расположенных далеко от границ, но способные к быстрой переброске и ведению войны с сильным противником. На опасные участки границы для подкрепления лимитанов командировались дополнительные вооруженные силы в виде вспомогательных полков – так называемые псевдо-комитаты. Император назначал двух высших военных начальников, командовавших пехотой (magister peditum) и конницей (magister equitum). Оба они имели высший ранг по табели, титуловались, наравне с префектами, viri illustrеs, но поскольку в вооруженных силах империи, несмотря на повышение роли кавалерии в сравнении с прошлой эпохой, пехота по-прежнему преобладала, magister peditum занимал более высокое положение, чем его коллега.
Территориально империя разделена была также на военные округа, называвшиеся дукатами, потому что командовали ими военачальники с титулами duxes. В средневековых королевствах этот титул получил значение герцогов – по-французски duc. Дуксы обладали вторым рангом по табели – viri spectabilеs (высокородные мужи).
Еще при Диоклетиане радикально уменьшилась численность легионов – с 6 тысяч до 1 или даже до 500 воинов. Лишь в отдельных случаях они именовались по-старому легионами, но чаще когортами, алами, auxilia, vexillationes, numeris, equites. Командовали ими офицеры со званием трибуна или префекта. Звание военных легатов исчезло из употребления, ушло и прежнее разделение офицеров на центурионов и трибунов, каковыми могли становиться лишь лица сенаторского или всаднического сословия. В связи с этим возможность для карьерного роста способных солдат и офицеров, независимо от их происхождения и положения до вступления на военную службу, существенно расширилась – для солдат действительно открылся путь к генеральским должностям и чинам.
При императоре Константине укрепилась давно уже сложившаяся тенденция комплектовать вооруженные силы не из числа римских граждан, в большинстве случаев свою воинскую повинность исполнявших в виде особых налогов и лишь в крайне редких случаях и в малом числе набиравшихся в легионы, а наемниками, причем главным образом из варваров. При Константине это были в основном северные варвары – германцы, в том числе особенно выделявшиеся среди них готы, бриты, а также сарматы, или аланы. Почти исключительно германцам император доверял охрану собственной персоны, семьи и двора. В результате римские граждане, и не только природные греки и италийцы, но и эллинизированные или романизированные инородцы, утрачивали способность и готовность воевать, и защита империи от варваров становилась делом самих варваров, нанятых на службу Риму, что, как выяснилось в исторически близкой перспективе, несло с собой грозную опасность, оказавшуюся смертельной для западной части империи.
Одним из испытаний для насыщенной германским элементом римской армии стала очередная война с готами, вторгшимися в 331 году в Дакию, к тому времени оставленную римлянами и занятую сарматами. Сарматы просили императора о помощи, и, поскольку совместные действия с одними варварами против других были выгодны для империи, Константин решил помочь им. Когда римские войска готовились к военной операции, готы под предводительством короля Арариха, действуя на опережение, первыми форсировали Дунай и приступили к грабежу в балканских провинциях, который продолжался в течение всей зимы, пока римская армия не нанесла по ним сокрушительного удара ранней весной 332 года. Разбитые остатки готских полчищ после этого ушли в горы, где они претерпевали холод и голод, заставивший их сдаться на милость победителя. Сын готского короля Арариха был взят в заложники, а сам король отпущен. Он вывел своих соплеменников за пределы империи, но значительная часть готов пожелала остаться в пределах империи. По возможно преувеличенным сведениям, до 300 тысяч готов были расселены в пограничных провинциях – в Паннонии, Фракии и Македонии – в качестве зависимых, но пользовавшихся самоуправлением союзников – федератов.
Вернувшись в Дакию, готы, уже при короле Геберихе, обрушили удар против сарматов и германского племени вандалов. Разбитые противником, сарматы просили императора об убежище и получили его – император приказал поселить их малочисленными группами на Балканах и в Италии. Вандалы обосновались тогда в междуречье Дуная и Тисы, на востоке современной Венгрии, куда они переместились с севера, из Силезии. Правил ими король Визимар. О войне готов с вандалами, которая относится к 337 году, последнему в земной жизни святого Константина, и ее последствиях Иордан писал так: «Геберих, король готов, начал с ними войну на берегу… реки Маризии (Мароша. – В.Ц.); недолго сражались они с равным успехом, но скоро король вандалов Визимар с большей частью своего племени был уничтожен. Геберих же, выдающийся вождь готов, после одоления вандалов и захвата добычи вернулся в свои места, откуда вышел. Тогда небольшая кучка вандалов, которые бежали, собрала отряд своих небоеспособных (соплеменников) и покинула несчастную страну; у императора Константина они испросили для себя Паннонию и, устроив там селения, служили как местные жители по императорским декретам»[7], то есть в качестве федератов. В этом сообщении факты обозначены верно, но налицо очевидные преувеличения: судя по позднейшей истории вандалов, совершивших победоносный поход по европейским и африканским провинциям империи, разоривших Рим, создавших свои государства в Испании и потом в Африке, большая часть их племени не была истреблена готами, и в Паннонии поселились отнюдь не только «небоеспособные» вандалы; во всяком случае, это племя смогло столетие спустя восстановить свою боеспособность, повергшую в ужас народы Римской империи.
Церковная жизнь после Никейского собора
Готская война, закончившаяся успешно для Рима, явилась лишь эпизодом в политической жизни империи 330-х годов, в целом стабильной и мирной. После Никейского собора главным предметом заботы императора стали церковные дела. Сразу после собора он отправился в паломничество в Палестину, затем, уже после его возвращения в Никомидию, в Палестину прибыла его мать Елена, которая надолго задержалась на Святой Земле. Как известно из сочинений древних церковных историков, в Иерусалиме, который в ту пору назывался Элия Адриана, ею был обретен Животворящий Крест Спасителя. В свое время на месте Гроба Господня был выстроен храм Афродиты. И вот, по рассказу Сократа Схоластика, узнав о том, где находилась пещера, в которой было погребено тело Спасителя, «откопав и очистив место, она нашла в гробнице три креста: один – преблаженный, на котором висел Христос, а прочие – на которых распяты были и умерли два разбойника. Вместе с ними найдена и дощечка Пилата, на которой распятого Христа провозглашал он в разных письменах Царем Иудейским. Но так как все еще неизвестен был крест искомый, то мать царя обуяла немалая скорбь. От этой скорби вскоре, однако, избавил ее иерусалимский епископ, по имени Макарий. Он… просил у Бога знамения и получил его… В той стране одна женщина одержима была долговременной болезнью и наконец находилась уже при смерти. Епископ вознамерился поднести к умирающей каждый из тех крестов, веруя, что, коснувшись креста драгоценного, она выздоровеет. Надежда не обманула его. Когда подносили к жене два креста не Господних, умирающей нисколько не было лучше, а как скоро поднесен был третий, подлинный, – умирающая тотчас укрепилась и возвратилась к совершенному здравию… Мать царя предложила создать на месте гробницы многоценный молитвенный дом и, построив его против того древнего разрушенного Иерусалима, назвала Иерусалимом Новым. Что же касается Креста, то одну часть его, положив в серебряное хранилище, оставила она там… а другую послала царю»[8], а Константин «скрыл ее в своей статуе», «утвержденной на высокой порфировой колонне… в Константинополе»[9]. Вместе с Крестом Господним святой Еленой обретены были и гвозди, которые послужили орудием страстей. Историк Созомен передает предание, что из этих гвоздей Константин «приказал сделать себе шлем и для коня узду»[10]. По возвращении из паломничества равноапостольная Елена преставилась, вероятно уже в начале 330-х годов, в возрасте около 80 лет.
Император щедро жертвовал средства на строительство храмов в Палестине: кроме храма Воскресения Христова, при нем воздвигнуты были церкви в Вифлееме и на Фаворской горе. Христианские храмы строились также в имперских столицах: в Константинополе и Риме, в Никомидии, в провинциальных центрах и других городах империи – на Западе и Востоке. Свободой вероисповедания пользовались при нем и язычники, в храмах которых повсеместно были воздвигнуты статуи Константина, сохранявшего за собой звание великого понтифика (pontifex maximus), продолжались и кровавые жертвоприношения, но, следуя указанию своей христианской совести, святой Константин прекратил публичное пролитие человеческой крови, запретив гладиаторские бои. Из числа видов смертной казни он исключил распятие на кресте, не столько ввиду его чрезмерной жестокости, сколько из-за того, что после распятия Спасителя оно в восприятии христиан приобрело кощунственный характер. Воскресный день стал при нем официальным государственным праздником, правда, язычникам позволялось чтить его как день «непобедимого Солнца» (Sol invictus) – этимологически на латинском, романских и германских языках название этого дня недели связывает его с солнцем: рудимент популярного на рубеже эр, в особенности в солдатской среде, митраизма.
Для воинов император составил молитву, которую приказал возносить в воскресный день на языке армии – латинском: «Тебя единого признаем Богом, Тебя исповедуем Царем, Тебя именуем помощником, Тобой приобретали мы победы, Тобой превозмогали врагов, Тебе приносим благодарение за полученные благодеяния, от Тебя чаем и будущих благ. Тебе все молимся и Тебя просим, да сохранишь на многие годы здоровым и победоносным василевса (в оригинале, конечно, не rex, но imperator. – В.Ц.) нашего Константина с боголюбезными его чадами»[11]. В этой молитве нет упоминания Господа Иисуса Христа, так что она была приемлема как для христиан, так и не для христиан, но своим подчеркнуто монотеистическим содержанием она едва ли совместима была с традиционно римским или эллинским многобожием, хотя, конечно, для политеиста оставалась возможность подразумевать под единым Богом верховное божество – Зевса или Юпитера, так что, строго говоря, обязательность этой молитвы для воинов ничьей религиозной совести не насиловала, при этом приближая молящихся воинов к познанию того Бога, Которому поклонялся их император.
Оберегая кафолическую Церковь от пагубных разделений, святой Константин издал указ относительно еретиков. В нем он обращается к отступникам от Православия со словами грозного обличения: «Узнайте теперь из моего закона, новациане, валентиане, маркиониты, павлиане, так называемые катафригийцы и все, посредством своего учения умножающие ереси, узнайте, сколько губительного яда содержит в себе ваше учение, от которого здоровые подвергаются болезни, а живые – вечной смерти!.. Ваши нелепости так многосложны и безмерны, так отвратительны и наполнены всякого рода жестокости, что для изображения их не хватит целого дня»[12]. Император призвал еретиков образумиться, отбросить свои заблуждения и войти в лоно кафолической Церкви. Еретические собрания, по этому указу, подлежали запрету, а молитвенные дома передавались кафолической Церкви.
Одним из постановлений Константина был запрет иудеям держать в рабстве христиан, ибо, по словам Евсевия Кесарийского, он «считал несправедливым, чтобы искупленные Спасителем были рабами убийц пророков и Самого Господа»[13]. Император распространил льготы, которыми пользовались языческие жрецы, на христианских клириков, освободив их от всякого рода повинностей, от исполнения обязанностей декурионов, сопряженных с личной финансовой ответственностью за поступление городских налогов в казну. В то же время, придерживаясь принципа религиозного равноправия, эдиктами от 330 и 331 годов он освободил от общественных повинностей также и иудейских раввинов и старейшин. Епископы до известной степени наделены были полномочиями публичной власти. Совершаемые в их присутствии манумиссии (освобождение раба на волю) признавались действительными.
В свою очередь, епископы привыкали смотреть на императора как на высшего судью и арбитра по спорам, которые возникали между ними. К нему же христиане обращались с жалобами на епископов. Еще до Никейского собора «какие-то сварливые люди, – по словам блаженного Феодорита, – взнесли обвинения на некоторых епископов и свои доносы подали царю письменно. Царь, пока еще не было восстановлено согласие между епископами, принимал это и, сложив все в одну связку, запечатал своим перстнем и приказал хранить. Но потом, когда мир был утвержден, он принес поданные себе доносы в присутствие епископов и пред ними сожег их, утверждая клятвенно, что не читал ничего тут написанного: не надобно, говорил он, проступки иереев делать общеизвестными, чтобы народ, получив отсюда повод к соблазну, не стал грешить без страха. Сказывают, Константин прибавил к этому следующее: если бы ему самому случилось быть очевидцем греха, совершаемого епископом, то он покрыл бы беззаконное дело своей порфирой, чтобы взгляд на это не повредил зрителям»[14].
Внутрицерковный мир, утвержденный на Никейском соборе, оказался, однако, к большому огорчению императора, непрочным и недолгим. Епископы, разделявшие богословские взгляды Ария или придерживавшиеся воззрений, расходившихся с учением, утвержденным на соборе, подписали символ веры и акт, осуждавший Ария и единомысленных с ним еретиков, не потому, что они искренне изменили свои убеждения, но из-за стремления угодить императору, который, как это видно из его посланий, предварявших созыв собора в Никее, не придавал важного значения богословским расхождениям, взбудоражившим Церковь, и если и не стремился достичь примирения любой ценой, то очевидным образом подталкивал спорящих к скорейшему компромиссу. Поняв это, искушенные покровители Ария, и в первую очередь Евсевий Никомидийский, решили эксплуатировать эту черту отношения императора к церковным делам. Они постарались предстать в его глазах способными до конца следовать его желаниям, готовыми ради примирения к уступкам, а своих противников, в особенности святителя Александра Александрийского и его ученика и последователя Афанасия, изобразить в глазах императора в черном свете непримиримых упрямцев и раздорников и до известной степени преуспели в этой своей политике, тем более что адвокатом арианской партии взялась быть единокровная сестра Константина Констанция. В 328 году она добилась от брата разрешения на возвращение на кафедру Евсевия, которого она хорошо знала и ценила со времени, когда она вместе с мужем Лицинием находилась в Никомидии. Одновременно из ссылки вернулся и единомышленник Ария Феогний Никейский.
17 апреля 328 года преставился святитель Александрийский Александр. Его преемником стал Афанасий. Ариане и их покровители выдвинули против него обвинение в том, что его хиротония была совершена в расхождение с каноническим возрастным цензом – ему не исполнилось еще и 30 лет. Довод этот не оказался особенно веским в глазах императора, но целеустремленная кампания по дискредитации самого одаренного и решительного противника арианства взяла старт.
 Одним из самых последовательных столпов Православия и обличителей арианской ереси был святитель Антиохийский Евстафий. Епископы-ариане (которые, впрочем, так себя не называли, заявляя: как это они, епископы, могут считаться последователями пресвитера, – и предпочитали свою близость с александрийским еретиком обозначать словом «солукиане») решили устранить Евстафия, чтобы на одну из важнейших кафедр, занимаемую им, поставить своего единомышленника. Против защитника Никейского символа выступил тогда и знаменитый церковный историк Евсевий Кесарийский, который, не будучи арианином, тем не менее, отвергал термин «единосущие» на том основании, что его нет нигде в Священном Писании, хотя на соборе в Никее он подписал принятый там символ с этим термином. Он составил тогда целый трактат «Церковное богословие», в котором критиковал термин «единосущный» как заимствованный у внешних и чуждый церковной традиции. Евстафий, отстаивая неприкосновенность Никейского символа, вступил в полемику с Евсевием. Евстафий был не только последовательным антилукианистом, но и антиоригенистом, чем особенно задел горячего почитателя Оригена Евсевия. Ответом со стороны Евсевия стало обвинение своего оппонента в савеллианстве; в свою очередь святитель Евстафий и его единомышленники обвиняли явных и скрытых ариан, а также примирительно настроенных по отношению к Арию церковных деятелей в политеизме. Между тем, в Антиохии и всей Сирии, где особенно почитали святого Лукиана Антиохийского как мученика за Христа, многие епископы выступили тогда против святителя Евстафия. На их стороне была едва ли не большая часть местного клира и церковного народа, но среди антиохийцев были и преданные единомышленники своего епископа. Ситуация в христианской общине города накалилась.
Одним из самых последовательных столпов Православия и обличителей арианской ереси был святитель Антиохийский Евстафий. Епископы-ариане (которые, впрочем, так себя не называли, заявляя: как это они, епископы, могут считаться последователями пресвитера, – и предпочитали свою близость с александрийским еретиком обозначать словом «солукиане») решили устранить Евстафия, чтобы на одну из важнейших кафедр, занимаемую им, поставить своего единомышленника. Против защитника Никейского символа выступил тогда и знаменитый церковный историк Евсевий Кесарийский, который, не будучи арианином, тем не менее, отвергал термин «единосущие» на том основании, что его нет нигде в Священном Писании, хотя на соборе в Никее он подписал принятый там символ с этим термином. Он составил тогда целый трактат «Церковное богословие», в котором критиковал термин «единосущный» как заимствованный у внешних и чуждый церковной традиции. Евстафий, отстаивая неприкосновенность Никейского символа, вступил в полемику с Евсевием. Евстафий был не только последовательным антилукианистом, но и антиоригенистом, чем особенно задел горячего почитателя Оригена Евсевия. Ответом со стороны Евсевия стало обвинение своего оппонента в савеллианстве; в свою очередь святитель Евстафий и его единомышленники обвиняли явных и скрытых ариан, а также примирительно настроенных по отношению к Арию церковных деятелей в политеизме. Между тем, в Антиохии и всей Сирии, где особенно почитали святого Лукиана Антиохийского как мученика за Христа, многие епископы выступили тогда против святителя Евстафия. На их стороне была едва ли не большая часть местного клира и церковного народа, но среди антиохийцев были и преданные единомышленники своего епископа. Ситуация в христианской общине города накалилась.
Около 330 года в Антиохии созван был собор. Большинство его участников составили ариане или арианствующие, в полемике между Евсевием и Евстафием взявшие сторону Кесарийского епископа. На этом соборе святителя Евстафия обвинили в савеллианстве. Хуже того – и это обстоятельство говорит уже о нравственном лице его противников, – против него было выдвинуто политическое обвинение в неуважении к матери императора святой Елене. Дело в том, что Елена особенно почитала мученика Лукиана. По словам А.В. Карташева, за этим стоит одна «исключительная случайность… Родилась она в западной Сицилии, в городке Дрепана – в нынешнем Trapani. Став царицей, она построила себе маленький дворец на своей родине. И вот случилось так, что там к берегу моря волны прибили тело мученика, признанного за тело Лукиана, хотя тело мученически казненного Лукиана брошено было в Мраморном море около берегов Никомидии. Святая Елена в память этого построила в Дрепане близ дворца церковь памяти Лукиана»[15]bularia, то есть дочери начальника конной станции, стоявшей “за стойкой” и разливавшей вино путникам, ожидавшим перепряжки и перекладки лошадей… Какие-то отзывы Евстафия об императрице Елене представлены арианствующими доносчиками Константину как crimen laese maiestatis»[16] – как оскорбление величества.. Критические оценки богословия Лукиана, сделанные Евстафием, были, вероятно, в разгар спора доведены до ее сведения. Реакцией Евстафия на ставшее ему известным возмущение неуважением к памяти особенно горячо чтимого ею мученика могли быть слова, которые представлены были на соборе как оскорбительные для матери императора. Что в действительности сказано было Евстафием, неизвестно, но он мог упомянуть о низком происхождении Елены. Комментируя происшедшее, Карташев пишет: «Святитель Амвросий Медиоланский сообщает нам, что Елена взята была себе в невесты отцом Константина Великого Констанцием Хлором из простого положения sta
Собор осудил святого Евстафия. В связи с этим в городе произошли беспорядки: сторонники низложенного епископа пытались добиться отмены соборного решения, а противники требовали перевести на кафедру Антиохии Евсевия Кесарийского. «К той и другой стороне… – по замечанию Сократа Схоластика, – присоединилась и городская община, так что наконец в город, будто против неприятеля, вступил отряд войск, и, конечно, дошло бы до мечей, если б Бог и страх к царю не укротили народного волнения, ибо царь своими посланиями, а Евсевий своим отказом остановили мятеж»[17]. Евстафий был арестован и доставлен в новую столицу империи на допрос к Константину, после чего подвергся ссылке во Фракию, где и преставился в городе Филиппополе в 337 году. Комментируя его низложение в послании к антиохийцам, Константин сравнивает его удаление с кафедры с «выбрасыванием нечистоты»[18]. На Антиохийскую кафедру избран был арианин Евлалий, затем, в том же 331 году, его сменил еще один противник «единосущия» – пресвитер из Кесарии Каппадокийской Евфроний, за ним следовали другие арианствующие епископы: Плакентий, Стефан, Леонтий и Евдоксий. Лишь в 358 году на Антиохийскую кафедру поставлен был первый после Евстафия православный епископ святитель Мелетий, но большая часть антиохийской паствы еще долго по-прежнему оставалась под властью епископов-ариан.
Устранив столп Православия в Сирии, арианствующие епископы и пресвитеры принялись за святого Афанасия Александрийского, самого ревностного и богословски искушенного защитника Никейского символа. В своих интригах против него они использовали мелитиан, которые по постановлению Никейского собора должны были воссоединиться с кафолической Церковью. Святитель Афанасий неукоснительно пресекал попытки мелитиан сохранить обособленное положение в лоне единой Церкви. После смерти самого Мелития его последователи признавали своим духовным лидером епископа Мемфисского Иоанна Аркафа, и тот жаловался императору Константину на чрезмерную требовательность Афанасия. Эту жалобу поддержал незадолго до этого возвращенный из ссылки на свою кафедру, но успевший уже сблизиться с императором, ставший его собеседником и советником по церковным делам епископ Никомидийский Евсевий, который, по существу дела, и был вождем арианствующей партии. Он внушил Константину мысль, что главным препятствием к успокоению церковной смуты является склонный к раздорам Афанасий, лишенный надлежащей гибкости и деликатности, непримиримый к любому мнению, отличающемуся от его собственного. Константин потребовал от Афанасия принять в общение мелитиан, не требуя от них упразднения своей обособленности. Для святителя это требование оказалось неприемлемым, и он тогда скрылся из города, опасаясь в противном случае лишить православную общину Александрии своего законного предстоятеля. Он и впредь станет часто прибегать к подобным поступкам, ибо, как писал А.В. Карташев, «нельзя было в расчете на объективность правосудия спокойно вверять себя арестам власти. Афанасий это прекрасно знал и потому сознательно вступил на путь конспирации, укрывательства от властей, уходил “в подполье” то в самой Александрии, а то и вдали от нее, глубже – в принильских пустынях и полупещерных жилищах монахов»[19], где он, как известно, сблизился с преподобным Антонием Великим, первым и лучшим агиографом которого он стал. Антоний не знал греческого языка, а общались они, естественно, без переводчика – в Александрии немногие знали тогда коптский язык, в основном это были сами копты, поселившиеся в мегаполисе, так что предположение о возможном коптском происхождении святителя не лишено оснований.
Между тем жалобы, обвинения и кляузы на святого Афанасия шли ко двору Константина одна за другой. Его обвиняли в произвольно установленном им налоге – неясно представленное в источниках дело «о льняных стихарях», в том, что вместе с пресвитером Макарием он вошел в храм, где совершал литургию мелитианский пресвитер, и там Макарий разбил потир и пролил святую кровь; наконец последовало обвинение в государственной измене, наказанием за которую могла быть лишь смертная казнь, а именно в том, что Афанасий выслал ящик с золотом объявившемуся тогда в Египте тирану, иными словами – узурпатору, Филумену. По этому обвинению Афанасий был доставлен ко двору – ad comitatum, но при допросе с очевидностью выявилась его невиновность, так что император даже назвал его после этой встречи «человеком Божиим». На Пасху 332 года святитель вернулся в свой кафедральный город, но из Константинополя последовали новые увещания со стороны императора к преодолению разногласий и всеобщему примирению.
Тем временем сестра императора Констанция незадолго до своей смерти (последовавшей в 333 году), находившаяся под сильным влиянием Евсевия Никомидийского, которого она хорошо знала и ценила еще со времен, когда он был близок к ее мужу Лицинию, рекомендовала брату арианствовавшего пресвитера Евтокия, и тот, оказавшись при дворе, внушал Константину мысль о том, что Ария можно убедить принять Никейский символ и тем положить конец пагубному разделению в Церкви.
Константин внял совету и обратился к Арию, находившемуся в ссылке, с посланием, которое помещено в «Церковной истории» Сократа: «Победитель Константин, великий август, – Арию. Давно уже объявлено было твоей крепости, чтобы ты прибыл в мой стан и мог насладиться лицезрением нас; но мы очень удивляемся, почему ты не сделал этого немедленно. Итак, теперь возьми общественную повозку и постарайся приехать в наш стан, чтобы, получив от нас милость и удостоившись снисхождения, тебе потом можно было возвратиться в отечество. Бог да сохранит тебя, возлюбленный. Дано за пять дней до декабрьских календ»[20].
Арий приехал к императору вместе со своим единомышленником Евзоем, и после беседы с Константином они оба подали ему составленное ими исповедание веры, в котором нарочито неопределенными словами замазывалось богословское расхождение между православным догматом о единосущии Божественного Сына Отцу и арианским учением, отвергающим тождество природы Отца и Сына: «Веруем во единого Бога Отца Вседержителя, и Господа Иисуса Христа, Сына Его, прежде всех веков от Него рожденного Бога-Слово, чрез Которого все сотворено на небесах и на земле… и Духа Святого, и в воскресение плоти, и в жизнь будущего века, и в Царство Небесное, и в одну вселенскую Церковь Божию…»[21]. Константин, по своей богословской неискушенности, искренне поверил в то, что Арий отошел от своих прежних взглядов и принял никейскую веру, даром что в его исповедании, естественно, отсутствовал ключевой термин «единосущный». Величайшим богословом и философом Константин почитал Евсевия Кесарийского, и хорошо знал, что тот давно уже избегал в своих сочинениях этого термина, находя его чуждым библейской и церковной традиции.
Разрешив Арию возвратиться в Александрию, император потребовал от святителя Афанасия принять его в общение, а тот, естественно, отказался выполнить это требование, находя его совершенно неприемлемым, доколе Арий не откажется от своей ереси, приняв Никейский символ в его полноте, чем снова вызвал раздражение у Константина, стремившегося к водворению в Церкви мира и согласия. Узнав о непримиримости Афанасия, император писал ему: «Имея доказательство моей воли, ты должен позволять беспрепятственно вступать в Церковь всем, кто желает вступить в нее. Если я узнаю, что ты воспрепятствовал кому-нибудь присоединиться к Церкви или возбранил вход в нее, тотчас пошлю низложить тебя по моему приказанию и вывести из тех мест»[22].
Воспользовавшись раздражением императора против Афанасия, его враги снова обрушили на него ушаты клеветнических обвинений, повторяя старые – о пролитии святой крови, о незаконных поборах – и изобретая новые, среди которых была и экзотическая выдумка о том, будто Афанасий убил мелитианского епископа Арсения, отчленил его руку и затем пользовался ею в колдовских целях. Самого же Арсения они спрятали в одном из монастырей. При этом они демонстрировали человеческую руку, неизвестно как попавшую в их распоряжение, утверждая, что они отняли ее у Афанасия.
Между тем приближался 30-летний юбилей правления Константина. К тому времени в Иерусалиме на месте Голгофы завершилось строительство храма Гроба Господня. Святой Константин пригласил в Иерусалим на освящение храма епископов из разных провинций империи. Им предстояло рассмотреть и споры, раздиравшие Александрийскую Церковь. Направлявшиеся в Иерусалим морем епископы высаживались в Тире Финикийском. Вот там Константин и предложил провести собор, подобный Никейскому, с тем чтобы, уладив сперва спорные дела, затем уже совершить в Иерусалиме освящение храма.
Соборные заседания в Тире открылись в 335 году. На собор съехалось до 180 епископов. Императора на соборе представлял комит Флавий Дионисий. По его приказанию преданный Афанасию пресвитер Макарий доставлен был в Тир в кандалах – именно его обвиняли в насилии, учиненном в храме, находившемся в распоряжении мелитиан, и в пролитии святой крови. Предвидя для себя какие угодно неожиданности, Афанасий прибыл в Тир в сопровождении 50 египетских епископов – приверженцев Никейского символа. Но комит под тем предлогом, что другие митрополии не были представлены столь многочисленным епископатом, лишил спутников Афанасия права голоса на соборе, на котором большинство составили единомышленники Ария, Евсевия Никомидийского и в лучшем случае Евсевия Кесарийского. Среди них были и ревностные ариане, прибывшие из Иллирии, где отбывал ссылку Арий и где он сумел убедить их в правоте своей ереси. Это были Валент Мурсийский и Урсакий Сингидунский. Православные никейцы были представлены на соборе святителем Макарием Иерусалимским, епископом Фессалоникийским Александром; Афанасия Александрийского поддерживал также епископ Анкирский Маркелл.
Главным предметом соборных деяний был объявлен спор между Афанасием и мелитианами. Со своей стороны мелитиане утверждали, что поставление Афанасия на место Александра было совершено без согласования с ними, почему они и отказались подчиняться ему. Его обвиняли в арестах мелитианских епископов и пресвитеров, в избиении некоторых из них розгами. Наконец дело дошло и до пресловутой руки Арсения. И тут обвинители, что называется, сели в лужу. Так случилось, что Арсений в ту пору также находился в Тире, в потаенном месте, тем не менее его укрытие было обнаружено городскими властями, сочувствовавшими Афанасию, и в нужный момент он был доставлен на собор. По рассказу блаженного Феодорита, враги Афанасия, обвинив его в убийстве Арсения, «открыли тот пресловутый ящик и вынули из него посоленную руку. Увидев ее, все вскрикнули: одни потому, что считали это действительным злодеянием, а другие потому, что хотя и видели здесь ложь, но думали, что Арсений еще скрывается. Как скоро наступило непродолжительное молчание, обвиняемый спросил судей, знает ли кто из них Арсения? На этот вопрос многие отвечали, что они хорошо знают сего мужа. Тогда Афанасий приказал ввести его и опять спросил: “Это ли тот Арсений, которого я убил, а они отыскивали, и который после убиения осрамлен и лишен правой руки?” Когда же они сознались, что это он, то Афанасий, раскрыв его плащ, показал обе его руки, правую и левую, и примолвил, что третьей, конечно, никто искать не будет, потому что каждый человек получил от Творца всяческих только две руки»[23]. Оскандалившись, обвинители, однако, не отступили и, по словам того же историка, «произвели в собрании шум и мятеж, называя Афанасия чародеем и говоря, что он каким-то волшебством отводит глаза людей»[24].
После провала с обвинением в убийстве недруги Афанасия во главу угла своих кляуз поставили старое обвинение в том, что по указанию Афанасия и в его присутствии пресвитер Макарий, содержавшийся в оковах, разбил потир и пролил святую кровь. Для расследования дела образована была комиссия из шести лиц, куда включены были заведомые враги Афанасия: Феогний Никейский, Марий Халкидонский, Валент Мурсийский и Урсакий Сингидунский, и эта комиссия отправилась для проведения расследования на месте в Египет. Узнав о том, что комиссия пришла к заранее ожидавшемуся обвинительному заключению по делу, святой Афанасий решил оставить собор и скрыться из Тира. Он отправился в Константинополь на барже, груженной лесом.
Несмотря на отсутствие обвиняемого, Тирский собор объявил о низложении Афанасия и запретил ему возвращаться в Египет, находя его бегство равносильным признанию своей вины. Мелитианских епископов и пресвитеров собор принял в общение в сущем сане. Завершив соборные заседания, его участники прибыли в Иерусалим и там совершили освящение храма Воскресения Христова. Слово на торжествах произнес самый ученый из съехавшихся в Иерусалим епископов Евсевий, епископ Кесарии Палестинской.
Между тем, добравшись до Константинополя, святитель Афанасий добился аудиенции у императора. Выслушав его объяснения по делу, Константин потребовал к себе представителей Тирского собора. Во главе соборной делегации, прибывшей в столицу империи в начале 336 года, стоял пользовавшийся особым уважением императора Евсевий Кесарийский. По случаю 30-летнего юбилея правления святого Константина он произнес похвальное слово в его честь. Затем император занялся разбирательством дела святителя Афанасия. Будучи человеком трезвым и рассудительным, он не поверил в достоверность выдвинутых против него обвинений, но неуступчивость Афанасия раздражала и отталкивала его. В его глазах он уже снискал репутацию возмутителя спокойствия. По версии В.В. Болотова, Константин рассуждал о случившейся ситуации как государственный деятель: «Если гражданский начальник провинции ведет дело так, что против него происходят восстания, то он редко остается на месте. Его считают неумелым администратором и подвергают административной ссылке. Так именно взглянул Константин на дело Афанасия и… сослал Афанасия в Трир (Augusta Treviorum) в Галлии, вероятно, 5 февраля 336 года, не назначив, впрочем, ему преемника по Александрийской кафедре»[25].
Епископ Анкирский Маркелл, отказавшийся наравне со святителем Макарием Иерусалимским осудить Афанасия, отправился в Константинополь и, получив аудиенцию у императора, безуспешно пытался добиться оправдания Александрийского святителя. Маркелл также настаивал на собственной реабилитации, преподнеся Константину трактат с изложением своих богословских взглядов. Для его рассмотрения император созвал в столице собор. Председательствовал на нем епископ Ираклии, являвшейся митрополией по отношению к Константинополю, Феодор, один из последователей Лукиана Антиохийского. Собор осудил Маркелла, обнаружив в его сочинении савеллианскую ересь, после чего Маркелл выехал в Рим, был там с любовью принят епископом Юлием, который занял Римскую кафедру в 337 году после смерти пребывавшего на ней в течение одного года Марка – преемника святого Сильвестра, преставившегося в 335 году.
Маркелл не был савеллианином в собственном смысле слова, но его тринитарная схема страдала существенными изъянами, так что его осуждение впоследствии было подтверждено II Вселенским собором. В богословии Маркелла ключевое значение имело именование второй ипостаси Логосом, основанное на 1-й главе Евангелия от Иоанна. Бог – абсолютная Монада, Логос присутствует в Ней изначально лишь в потенции, затем Он проявляется в действии как энергия, творящая мир. Сыном Логос становится лишь с момента воплощения. Дух Святой до сошествия на апостолов пребывает в Логосе и Отце. Его явление – это новое раскрытие Монады, Которая вначале расширилась в Логос, а затем открылась в Святом Духе. Божественная Троица – это феномен, имеющий сотериологическую основу. Ее существование обусловлено домостроительством. В Самом Себе Бог остается абсолютной Монадой. Подобно Афанасию, Маркелл не употреблял по отношению к Божественным Лицам термина «ипостась», но у него обнаруживается особая нетерпимость к подобной терминологией, так что его триадология совершенно уже несовместима с новоникейским богословием каппадокийских отцов. Никейское «единосущие» он использует как орудие против учения о божественных ипостасях, которое он инкриминирует арианам, отождествляя его с политеизмом.
Савеллианские черты богословия Маркелла в восприятии подозрительных противников савеллианства набрасывали тень на богословие самого Афанасия, который не отмежевывался от своего незадачливого союзника в борьбе против арианства.
На Анкирскую кафедру, которую занимал низложенный Маркелл, был поставлен Василий. Не будучи арианином, он подозревался в сочувствии этой ереси со стороны таких староникейцев, как Евстафий Антиохийский или Макарий Иерусалимский.
После удаления в ссылку святителя Афанасия Арий со своими единомышленниками открыто проповедовал свое учение в Александрии, вызвав возмущение православных, которые составляли значительное большинство среди христиан Египта. В Константинополь поступали жалобы на ересиарха со стороны православных. Константин приказал Арию явиться для дачи объяснений в столицу, и, когда он прибыл в Константинополь, среди местных христиан произошло разделение: одни отвергали его учение, а другие принимали его. Последовательным противником арианства был епископ Константинопольский Александр, но пользовавшийся тогда почти уже безраздельным влиянием на больного императора епископ Никомидийский Евсевий угрожал Александру отлучением, если тот не примет в общение Ария. Святитель Александр в смятении дерзновенно молил Бога о знамении, которое бы явило ему истинное лицо Ария. Император, призвав к себе Ария, потребовал от него в письменном виде подтвердить свое согласие с Никейским символом, и тот, не колеблясь, выполнил это требование, хотя и лицемерно.
А затем, как рассказывает Сократ, «царь приказал Константинопольскому епископу Александру принять его в общение… Вышедши из царского дворца, Арий в сопровождении телохранителей своих, евсевиан, шествовал по самой середине тогдашнего города и обращал на себя взоры всех. Когда он находился уже близ так называемой площади Константина, на которой воздвигнута порфировая колонна, какой-то страх совести овладел им, а вместе с страхом явилось и крайнее расслабление желудка. Поэтому он спросил, есть ли где вблизи афедрон, и, узнав, что есть позади Константиновой площади, пошел туда и впал в такое изнеможение, что с извержением тотчас отвалилась у него задняя часть тела, а затем излилось большое количество крови и вышли тончайшие внутренности; с кровью же выпали селезенка и печень, и он тут же умер»[26].
В правление святого Константина христианская вера была принята правителями двух государств за пределами империи: Грузии при царе Мириане в 330 году благодаря миссионерскому подвигу святой равноапостольной Нины, которая, по преданию, находилась в родстве с великомучеником Георгием, и Эфиопии, куда епископом послан был поставленный святителем Афанасием Фрументий. Эфиопская Церковь с тех пор находилась в юрисдикции Александрийской кафедры, а Грузинская, подобно Церквям сасанидского Ирана и Армении, – Антиохийской.
Крещение и кончина святого Константина
В начале 337 года империя стояла на пороге очередной войны с Ираном. В разгар ее подготовки император Константин, находясь в военном лагере в Азии, тяжело заболел и в канун Пасхи вынужден был вернуться в Константинополь. Там он с особой заботой контролировал ранее начатое строительство храма во имя 12 апостолов, стремясь к скорейшему завершению постройки. Воздвигнутый храм, по словам биографа и панегириста Константина Евсевия, отличался роскошью отделки: «Когда это здание возведено было до несказанной высоты, стены его с верху до низу василевс обложил разноцветно блистающими камнями, а купол, украшенный мелкими углублениями, покрыл весь золотом. Снаружи, вместо черепицы, медь доставляла зданию надежную защиту от дождей, по меди же положена густая позолота, так что блеск ее, при отражении солнечных лучей, был ослепителен даже для отдаленных зрителей; купол вокруг обведен был решетчатым, сделанным из золота и меди барельефом… Вокруг же храма простирался весьма обширный двор… по четырем его сторонам тянулись портики и замыкали площадь, окружавшую храм; за портиками занимали пространство дворцы василевса»[27]. В этом храме сооружены были 12 ковчегов, в которые предполагалось положить мощи апостолов, когда те будут обретены, а посреди них поставлена была гробница, которую Константин предназначил для самого себя.
Страдая от болезни, император отправился на целебные воды в город, расположенный вблизи от столицы, но за Босфором, названный именем его матери – Еленополь. Но воды не помогли, и святой Константин стал готовиться к смерти. Он усердно молился Богу в храме Мучеников и принял решение креститься. Отлагательство христианином крещения до самого конца земной жизни в ту пору не представляло собой исключительного явления. Младенцев в христианских семьях крестили относительно редко, обычно при опасении за их жизнь. Чаще крещение принимали взрослые и даже пожилые люди, вполне сознательно относившиеся к принимаемому ими таинству; нередко это случалось уже на смертном одре.
Константин, по словам Евсевия, «подумал, что пора уже очиститься ему от прежних прегрешений, ибо веровал, что все, в чем он согрешил, как смертный, будет снято с души его силой мистических молитв и спасительным словом крещения»[28]. Для совершения над ним таинства Константин перебрался в близлежащий город Никомидию, куда приехали епископы окрестных городов. Евсевий так передает слова, с которыми император обратился к собравшимся у его одра епископам: «Пришло то желанное время, которого я давно жду и о котором молюсь как о времени спасения в Боге. Пора и нам принять печать бессмертия, приобщиться спасительной благодати. Я думал сделать это в водах реки Иордан, где во образ нам, как повествуется, принял крещение Сам Спаситель, но Бог, ведающий полезное, удостаивает меня этого здесь. Итак, не станем более колебаться, ибо если Господу жизни и смерти угодно будет и продлить мое существование, если однажды определено, чтобы отныне я присоединился к народу Божиему и, как член Церкви, участвовал в молитвах вместе со всеми, то через это я подчиню себя правилам жизни, сообразным с волей Божией»[29].
Епископы во главе с местным правящим архиереем Евсевием, в последние годы самым приближенным из них к императору, совершили крещение, после чего, как пишет другой Евсевий, Кесарийский, «удостоившись Божественного запечатления, он ликовал духом, обновился и исполнился света Божиего, от переизбытка веры душевно радовался и живо поражался действием силы Божией»[30]. Облачившись в белые ризы, он более уже не надевал на себя багряные одежды, подобающие императору.
21 мая 337 году, около полудня, в последний день празднования Пятидесятницы, святой Константин преставился. Как пишет его биограф, «в ту же минуту дорифоры и вся стража, разодрав одежды и повергшись на землю, начали ударяться головами, огласили дворец плачем, рыданиями и воплями и именовали Константина своим владыкой, господином, василевсом, и не столько владыкой, сколько отцом… Таксиархи и лохаги называли его своим спасителем, хранителем и благодетелем, а прочие войска… скорбели, как бы покинутые стада, о своем добром пастыре; народ, блуждая по городу, выражал душевную скорбь криками и воплями; многие от печали, казалось, объяты были ужасом»[31].
Тело святого Константина, положенное в золотой саркофаг, покрытый пурпурным покрывалом, было доставлено в Константинополь и поставлено на высоком постаменте в большом зале дворца. Саркофаг находился там в течение 3,5 месяцев, для того чтобы проститься с императором могли не только его близкие и сановники, но и его генералы, офицеры и солдаты, имперские чиновники и римские граждане, жившие не только в Константинополе, но и других городах. Из дворца саркофаг был перенесен в храм 12 апостолов и помещен между гробницами самовидцев Слова. Место погребения Константина способствовало тому, что он стал почитаться Церковью как исапостолос – равноапостольный, чему не помешало ни его крещение от арианствующего епископа, ни удаление из Александрии самого ревностного и искусного в слове защитника Никейского символа святителя Афанасия. Память святого Константина приходится на день его блаженной кончины – 21 мая по юлианскому календарю. Впрочем, Западная Церковь не почитает его в сонме святых, хотя в отдельных регионах Запада, в разных местах Сицилии и Сардинии, одним словом, в тех странах, которые долгое время находились во власти императоров Нового Рима, сохранился его культ.
Четверть века спустя мощи императора были перенесены в близлежащую церковь святого мученика Акакия. Это сделано было при епископе Константинопольском Македонии из-за опасений, что храму 12 апостолов грозило разрушение, что вызвало народное возмущение, подавленное с пролитием крови. Храм 12 апостолов, однако, простоял до эпохи святого императора Юстиниана, когда он был основательно перестроен.
Римский сенат причислил скончавшегося императора к лику бессмертных богов, поставив его, таким образом, в один ряд с Цезарем, Августом и некоторыми другими принцепсами. Никто из римских императоров после Августа не правил империей столь долго, как святой Константин, – 31 год. Константин напоминает Августа и некоторыми чертами характера: выдающимся и острым умом, работоспособностью, хладнокровием, рассудительностью, уместной осторожностью в удачном сочетании со способностью к решительным действиям после того, как план затеваемого предприятия основательно продуман. Август – выходец из старинного рода, природный наследник вековых политических и культурных традиций Рима – превосходил Константина, романизованного иллирийца, эрудицией, рафинированностью и изощренностью ума, но он, несомненно, уступал ему как полководец: военные таланты Августа были, не в пример его двоюродному деду и усыновителю Цезарю, вполне посредственными; этот недостаток искупался, правда, тем, что Август знал о нем и, чуждый самомнения, сумел окружить себя блестящими помощниками в ратном деле, как, впрочем, они окружали его и в иных сферах государственного правления. Константин же был одним из самых великих полководцев Рима.
И тот, и другой император начинают собой целую эпоху римской и мировой истории, но масштабность перехода от олигархической формы правления к принципату, путь к которому, к тому же, был проложен предшественником Августа Цезарем, не соизмерима с переходом Римского государства из языческой фазы в христианскую, который символически ознаменован перемещением имперской столицы с берегов Тибра на Босфор, в самую сердцевину эллинистического мира. Подвигом Константина не только открылась новая эпоха в истории Рима: изданный им Миланский эдикт и последовавшее за ним созидаемое шаг за шагом установление симфонических отношений между Церковью и государством обозначили рождение новой христианской цивилизации на пространстве Средиземноморья, распространившейся потом на всю Европу и за ее пределы. Величие этого подвига и сделало Константина истинным равноапостолом, а поставление его саркофага между гробницами, уготованными для мощей двенадцати учеников Христа, послужило всего лишь поводом для прославления его в этом чине.

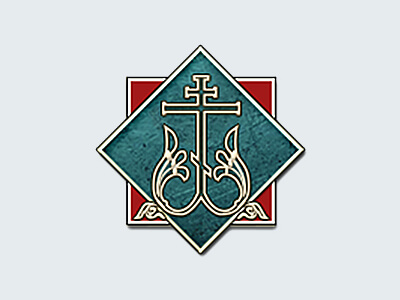

Господи! помилуй мя! Аминь
Статья в целом очень познавательная, хотя содержит ряд натяжек, например касающихся "обычного" для ромеев возраста крещения. Если этим возрастом был, скажем, интервал 45-70 лет, то кто же был на службах в церквях после возгласа "оглашенные изыдите"?
Вспоминается мне как некий эфиоп, выслушав в течение нескольких часов проповедь апостола, немедля выразил желание креститься, стать членом церкви.
Достойное желание, не правда ли? Эфиопа правда, никто не ввел в чин равноапостольных.