Напомню о происхождении названия цикла. Один православный американец, отвечая на мой вопрос, что держит его столько лет в России, сказал: «Когда я хожу по Русской земле – я хожу по антиминсу».
С иным человеком бывает так: впервые оказавшись на Бутовском полигоне, он испытывает шок и явственно чувствует, как изменяется что-то в нем, как становится другой его душа и его вера. Он стоит на земле, пропитанной кровью святых, и это не метафора, это самая что ни на есть реальность. Ему тяжело, но в то же время он понимает – ясно, как никогда: нельзя, невозможно нам теперь сломаться, впасть в уныние, пасть духом, оставить труды, утратить любовь, оскудеть верой. Не для того они здесь стояли – на кромках рвов… Человек возвращается из Бутова к себе домой и говорит всем: поезжайте туда, поверьте: это вам нужно, это нужно каждому русскому христианину!
А еще через некоторое время он осознает: испытать этот благотворный шок можно и не побывав на Полигоне святости. Кровью мучеников пропитана вся наша земля, вся Россия. Осознавать и чувствовать это действительно нужно каждому из нас. Далеко не все убитые за веру, за Церковь сегодня канонизированы. Но страдание каждого свято.
***
Вот село Белогорное Вольского района Саратовской области; до революции оно именовалось почему-то Самодуровкой. Здесь родился и отсюда же ушел на свою Голгофу иерей Иаков Логинов. Священнику Максиму Плякину, секретарю Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия, так и не удалось найти его фотографию. Ее нет даже в уголовном деле: далеко не всех арестованных тогда, в год Большого террора, фотографировали, не до снимков было – такой вал шел! Но, читая очерк отца Максима, я, кажется, видела отца Иакова – обычного сельского батюшку, пчеловода и огородника, отца девятерых детей, – как живого… Он пользовался удивительной любовью и преданностью своей крестьянской паствы. Когда его вызвали в НКВД в первый раз – в 1930 году (в то время он служил в Гостевке Воскресенского района), деревенские женщины не отпустили его в райцентр одного, собрались и поехали с ним, наивно надеясь защитить батюшку там, в ОГПУ, спасти от ареста. «Виновным себя не признаю, – объяснял отец Иаков следователю, – женщины меня охраняли в количестве 10 человек в момент моего вызова в Воскресенское не по моей инициативе, а по своей…» Свидетели, впрочем, показывали другое: «Когда стало известно об аресте Логинова, его собирались защищать примерно 50 женщин». После шестилетней ссылки отец Иаков вернулся в родную Самодуровку. Храм был закрыт, семья священника выживала натуральным хозяйством. Однако… Вот совершенно замечательный донос: «…он (отец Иаков. – М.Б.) вызывает мою жену и насильно заставляет ее крестить моего ребенка. Я хотел на этого попа террористически напасть, но не сделал этого, боясь, что за это мне влетит. Я его крепко изругал и спросил: значит, из тебя поповскую дурость не перевоспитали? А он мне ответил: “Никогда нас со святыней не разлучат”. Я прошу органы НКВД принять меры к изоляции таких негодяев…»
Из обвинительного заключения: «Враждебно настроен против Советской власти, распускал слухи о скором развале колхозов, производил крещение детей на селе». На высшую меру вполне хватило. Никогда нас со святыней не разлучат – со святыней мученического подвига.
***
Старинное волжское село Пристанное близ Саратова. Новый красивый православный храм в честь Преображения Господня выстроен на месте старого, дореволюционного – это удача: не всегда удается восстановить храм точно на прежнем месте, часто оно бывает занято. А настоятелем дореволюционного Преображенского храма был священник Николай Алексеевский. Его трагическая история, извлеченная на свет Божий саратовским исследователем Валерием Тепловым, похожа на сотни тысяч других, но у нее есть свои особенности. В первый раз в том же «пристрелочном» 1930 году отца Николая арестовали по жалобе некоего пьяного хама, который, войдя в храм во время крещения ребенка, курил, кривлялся, передразнивая священника, совершавшего таинство, непотребно ругался и порвал пиджак на церковном стороже. На настоятеля, по всей видимости, была возложена ответственность за то, что церковный сторож посмел принудительно транспортировать товарища атеиста из храма наружу. По этой жалобе отца Николая продержали в кутузке шесть дней, потом отпустили домой… Ну а семь лет спустя уже не отпустили. Опять эта знакомая уже нескладуха спешащего, замотанного (сколько их, а он один!) следователя районного ОГПУ: «В апреле Алексеевский говорил проповедь в церкви верующим, где в своей речи сказал, что эта власть не богом послана, а не чистой силой и поэтому советская власть производит гонение на крестьян и верующих в бога. Масса крестьян советской властью сослана, репрессировала, семьи советской властью выбрасывались без куска хлеба…» Священнику из Пристанного Николаю Алексеевскому было на момент расстрела 59 лет.
А вот село Чиганак Аркадакского района. Здесь служил Дионисий Чиганакский – священномученик Дионисий (Щеголев). О нем известно не так много. Как и Косма Рыбушкинский (о нем я рассказала в предыдущей статье цикла «Географии антиминса»), он был из крестьян и сам крестьянствовал, а в графе «Образование» писал: «Низшее» – то есть начальное. Однако при неизвестных доселе обстоятельствах был рукоположен в сан иерея. А осужден в первый раз – в 1930 году – за неуплату налогов, возможно – как крестьянин-единоличник. Находясь на спецпоселении в Караганде арестован вторично – за «проведение религиозных обрядов». Потом, однако, вернулся в Чиганак и какое-то время еще служил. Потом за ним пришли… и больше он уже не вернулся.
***
Однако нам пора из сельской глубинки в областной центр, в любимый саратовцами Алексиевский женский монастырь. От трамвайной линии вверх, в гору, поросшую леском: местность в городской черте, но напоминает больше сельскую или дачную. Так и трамвайные остановки здесь называются с дореволюционных времен: Первая Дачная, Вторая… до Девятой. Монастырь на горе между Первой Дачной и Второй. Я иду вверх по горе в монастырь для того, чтобы поклониться праху матушки Антонии – игумении уничтоженного большевиками саратовского Крестовоздвиженского монастыря Антонии (Заборской). Все, о ком шла речь выше, лежат неизвестно где. А игумении Антонии «повезло» – если только это слово не кажется кощунственным. Ее не расстреляли. Она просто не дожила до расстрела – умерла во время следствия, по некоторым данным – во время допроса. Ей было уже 73, это был третий арест в ее жизни, за спиной у нее был разгром монастыря, ссылка и много еще чего; этих ночных допросов она уже просто не могла выдержать. Благодаря автору очерка «Монастырь над Волгой» покойному Алексею Сабурову – работнику госбезопасности, а затем историку и журналисту, который изучил ее уголовное дело, – мы видим, с каким достоинством держалась эта игумения в последние дни своих земных испытаний. В ее показаниях было что-то наивно-беззащитное и чистое – она как будто пыталась вернуть своего следователя (годившегося ей разве что в младшие сыновья) к какому-то здравому смыслу: «По-моему, наши беседы не являются антисоветской агитацией хотя бы по одному тому, что мы разговаривали в интимной обстановке, в тесном кругу лиц и никого агитировать не собирались…» И еще: «В беседах с Соколовыми я высказывала следующие суждения: “Ленин писал программу партии и говорил, что настанет хорошая жизнь для народа. Вот мы и дожили до счастливой жизни. Разве это жизнь? Нигде ничего не достанешь, не купишь. Заставить бы теперь Ленина пожить в наших условиях, он бы узнал, что такое счастливая жизнь”». Вот такая была бабушка – прямая…
По делу вместе с ней проходило восемь пожилых (старше пятидесяти) женщин и один мужчина – слесарь Саратовского завода комбайнов Иван Соколов. Васса Соколова – его супруга, а остальные шесть женщин – «бывшие монашки», так называло их следствие, на самом деле – монахини разгромленного Крестовоздвиженского монастыря, стоявшего в Саратове на берегу Волги. После революции матушка Антония пыталась спасти монастырскую общину, преобразовав ее для виду в трудовую артель. Но власти быстро эту артель раскусили: «…превратилась в форменный монастырь: совершаются постриги в монашеские духовные чины, в церкви произносятся антисоветские проповеди, монастырь является экономической базой для поддержки высланного саратовского монархического духовенства…». Это и послужило поводом для второго ареста игумении Антонии – Антонины Станиславовны Заборской – в 1927 году. Тогда ее и с нею еще трех монахинь-артельщиц (а всего их было 269 – считая девочек-воспитанниц, сирот) отправили в ссылку. Но они не потеряли связей – друг с другом и с теми, кто оставался в Саратове. По возвращении из ссылки тоже старались держаться и выживать вместе. Результат – третий арест в ноябре 1941-го. Одна из проходивших по этому, последнему для игумении Антонии, делу – Варвара Глотова – расстреляна. Остальные получили – от десяти до семи. Тело игумении Антонии закопали на Воскресенском кладбище – говорят, что кладбищенский сторож на следующий день показал монахиням это место. И вот что удивительно: все советские годы верующие люди берегли ее могилу, ухаживали за ней, сажали цветы. И не просто ухаживали, нет – могила почиталась как святыня, она стала местом своего рода паломничества. По свидетельству упоминавшегося уже здесь саратовского историка Валерия Теплова, деревянный крест на ее могиле был весь в щербинках – люди вынимали щепочки для себя… Кстати: Валерием Тепловым совместно с православным похоронным агентством при Саратовской епархии на могилах священнослужителей и монашествующих установлено 29 постоянных металлических крестов.
Перезахоронение игумении Антонии в ограде Алексиевского монастыря состоялось в ноябре 2012 года – по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Но здесь я должна привести читателя с Первой Дачной, где расположен этот монастырь, на берег Волги, на историческое место другого женского монастыря – Крестовоздвиженского, того самого, где в свое время подвизалась игумения Антония – настоятельница обители. Комплекс монастырских зданий разрушен, на его месте теперь гостиница, но кое-что уцелело: во-первых, ворота Никольского монастырского храма, а во-вторых, еще одно здание – в нем-то теперь и находится Крестовоздвиженский храм вместе с епархиальным учебным центром во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы. О центре, о настоятеле храма, священнике и враче Сергии Кляеве, возглавляющем епархиальный отдел по благотворительности и социальному служению, о созданном им Обществе православных врачей, об их подвижническом труде, совершенно бесплатно заполняющем провалы государственного здравоохранения, – нужно рассказывать отдельно. Я упоминаю сейчас обо всем этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть: мученики наши присутствуют в наших добрых делах и нас поддерживают.
Прежде чем найти окончательное упокоение на монастырской земле, игумения Антония посетила храм на месте своей родной обители. Цитирую рассказ супруги отца Сергия Надежды Кляевой:
«Всё прошло очень торжественно, на душе – как во время пасхальной заутрени. В 9 часов утра иерей Сергий Кляев отслужил литию, затем иеромонах Пимен служил молебен о всяком благом деле. В 13 часов останки извлекли из могилы и уложили в гроб. Путь наш теперь лежал в Крестовоздвиженский храм. Едем в родную обитель матушки, вернее – в тот уголок, что остался от некогда обширной территории монастыря. Игумению облачают по чину. Снова служим литию. Воспитанницы (Центра во имя великой княгини Елисаветы. – М.Б.) поочередно читают Псалтирь, поминая на каждой славе приснопамятную Антонию. У всех необыкновенный подъем, все с воодушевлением молятся: радость такая, будто долгожданная гостья приехала. К семи часам вечера собирается полный храм. Служим на одном дыхании панихиду. Батюшка произносит проповедь. Все прикладываются ко гробу, никто не хочет расходиться, все в едином порыве. Девочки наперебой просят разрешения почитать еще хотя бы по одной кафизме. “Пусть Матушка побудет "дома" до утра”, – упрашивают они.
Но мы знаем, что в Свято-Алексиевском монастыре матушку уже ждут, чтобы отпеть ее по монашескому чину. Служим литию и под заупокойный напев “Святый Боже…” гроб с честными останками погружаем в катафалк. Делаем круг по улицам: набережная Космонавтов, Московской, Лермонтова, где некогда высились купола Никольского и Крестовоздвиженского храмов, и едем на Первую Дачную.
Вот и ворота монастыря – у сестер уже все готово. В 22 часа начинается отпевание…»
***
Но я уже спускаюсь с горы к трамвайной линии: наша историческая «тройка» (первый в саратовской истории трамвай, вывозивший когда-то саратовцев из города на волю, на кумыс, на Кумысную поляну), возвращаясь с дачных остановок в центр, быстро довезет меня до Серафимовского храма. Это, кстати, один из первых, если не первый Серафимовский храм в России, он был освящен спустя совсем малое время после канонизации Саровского старца. Настоятелем этого храма с 1913 по 1918 год был пресвитер Михаил Платонов, священномученик, входящий в Собор Саратовских святых. О нем очень многое можно рассказать, но вот две цитаты, ярко характеризующие этого человека. Первая – из протокола допроса: «По поводу расстрела Николая II мною была произнесена проповедь следующего содержания: “Прошел слух о расстреле бывшего императора. Слух этот не только не опровергается, но одобряется Советской властью, следовательно, это факт. Николай Александрович расстрелян без суда и следствия и без народного ведома. Как относиться к этому убийству, по указанию Библии?” После этого мною был прочитан рассказ амоликитянина об убийстве царя Саула из Библии: Книга Царств, глава [первая]; а также были приведены слова из Библии: “Не прикасайтесь к помазанникам Моим”. Закончена была проповедь возглашением вечной памяти о бывшем царе Николае Александровиче; особая панихида мною не служилась. Хотя я сознавал и сознаю, что моя литературная и проповедническая деятельность приносит вред Советской власти, но, ставя выше всего интересы Православной Церкви, я считал своим долгом в защиту ее выступать против ее гонителей…»
Вторая – из речи на суде, в том же 1918 году: «…обвинитель очень раздосадован тем, что я очень спокойно вел вчера себя здесь, что мне предъявляются такие-то обвинения и я так спокоен, высказываю свои монархические убеждения. Очевидно, он хочет сказать: ничего этого нет, мол, и это только хотят показать. Но товарищи, я и сейчас спокоен, хотя вы и вынесете мне смертный приговор: разве я сказал, что небо пусто? Я верю, что небо не пусто, что там есть жизнь — и я не верю в смерть. Если вы меня убьете – я буду жить…»
Неоднократно уже упоминавшийся здесь секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия признавался, что члены комиссии плакали, читая предсмертную речь отца Михаила, расстрелянного в октябре 1919 года на окраине Воскресенского кладбища вместе со священномучеником Германом (Косолаповым), епископом Вольским. В день их памяти на месте их захоронения председатель названной выше епархиальной комиссии, настоятель храма во имя святых Царственных Страстотерпцев (неслучайная перекличка!) священник Кирилл Краснощеков всегда служит молебен. С 2011 года, с момента учреждения празднования Собору Саратовских святых, панихида на Воскресенском кладбище совершается архиереями Саратовской митрополии.
«Тройка» идет мимо Воскресенского кладбища с его расстрельным рвом и подходит к родному храму отца Михаила Платонова… Сколько саратовцев ежедневно совершают этот маршрут! А ведь он может стать хоть и короткой, но настоящей паломнической поездкой – до меня самой это вот только что дошло. На трамвае – по святым местам, время в пути – 20 минут.
А места действительно святые. На такой земле живем…
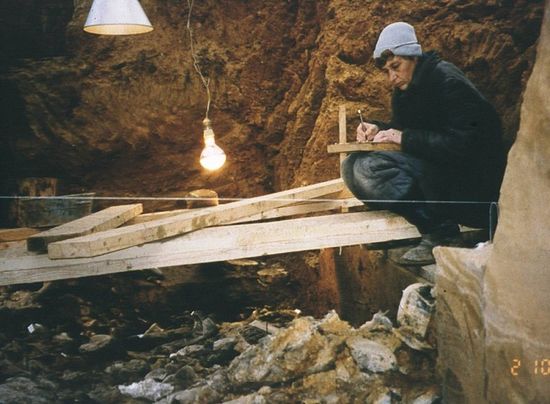
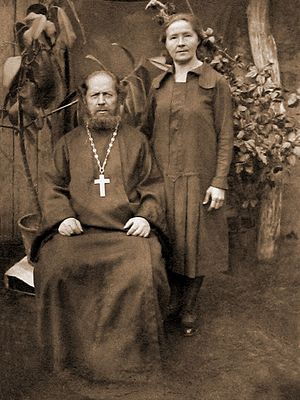



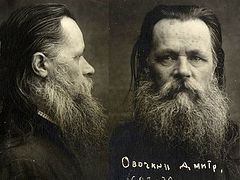

Жаль, очень жаль, что современные русские люди забыли на какой земле они живут. Забыли и не хотят знать, что такое Истинное Православие. Отсюда и все беды у России.