В рубрике «Приглашаем к размышлению» петропавловской газеты «В добрые руки», советы и ответы на актуальные, порой каверзные вопросы дают – архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий, а также жители Петропавловска Андрей Ляндзберг и Максим Дьяков. Не стоит думать, что рубрика ориентирована только на православных читателей, мы будем рассуждать о том, что волнует каждого! Ведёт рубрику Оксана Вецлер.
Великий иноческий подвиг, совершаемый человеком в одиночку, но не в одиночестве: монашество — тема очередной встречи с Вами, уважаемые читатели.
— Что это за человек такой —
монах?
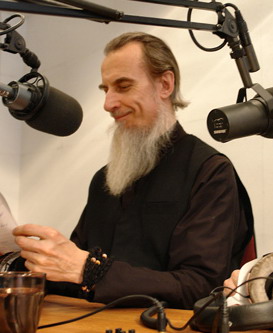
Фото: Pravkamchatka.Ru
Владыка: Человек, живущий в уединении с Богом, цель его жизненного пути — расширить и укрепить отношения с Ним.
— Существует понятие «чёрное» монашество, зачем усиливать и так — куда черней?
Владыка: Это священнослужители, принявшие монашеский сан, а «белое» священство — это обычные семейные священники.
— С чего начинается иноческий путь человека?
Владыка: Монах даёт три обета. Первый обет «нестяжания» не позволяет иметь никокой собственности. Всё, что у меня есть здесь на Камчатке, — квартира, в которой я живу, автомобиль, которым пользуюсь — принадлежит церкви; облачение и книги — всё, что мне разрешается брать с собой. Хочешь служить Богу — отрекись от материального. Второй обет — обет целомудрия, он позволяет избежать привязанности уже другой — к людям. И третье обстоятельство монашеской жизни — послушание, т. е. полное отсечение своей воли, предание себя в руки Бога и священноначалия. Монах отдаётся в руки игумену, епископ — патриарху.
— Что это значит — «монашеское послушание», зачем ему нужно следовать?
Владыка: Когда человек поступает в монастырь, игумену предстоит определить, какие у человека есть способности и склонности, а также, какие недостатки стоят на пути раскрытия во всей полноте образа Божья в этом человеке. Для нивелирования недостатков назначаются послушания. Одно из самых главных препятствий на пути духовного совершенствования — это наша самость, наше «Я». И вот, пример, как меня испытывал игумен. Он мне дал послушание, а я попытался доказать, что это нужно делать другим способом. Игумен не стал со мной спорить, а спокойно благословил принести большой ящик земли из сада, после чего привёл в большую комнату и указал тщательно вымыть её. Я вымыл, и он благословил мне… раскидать эту землю по только что вымытому мною полу, а затем собрать её дочиста тряпкой. Представляете, что это значит, развозить вот так землю! Трижды я мыл пол, мне было тяжело, больно, обидно, я думал: « За что?» но этот урок запомнил на всю жизнь — в монашестве, прежде всего, нужно научиться послушанию.
— Это лишь один пример, хоть и живописный, из жизни монаха, а из чего состоит его обычный день, как устроена жизнь иноческая?
Владыка: То, о чём вы спрашиваете, укладывается в такое понятие, как монашеский устав. Устав касается каждого инока. Монах встаёт в 5 часов утра, затем следует индивидуальная молитва — келейное правило, затем — общее богослужение, храмовая молитва, иными словами. Длится она от 3 до 5 часов. Дальше — послушания. Кто-то в храме остаётся, кто-то во двор идёт, кто-то паломников встречает. У каждого — своё. Чем больше монастырь, тем больше послушаний, допустим, Валаамский монастырь — целая республика! Там представлены почти все виды человеческой деятельности: садоводство, сельское хозяйство, книгопечатание, свечной завод; они себя полностью обеспечивают.
Затем — первая (!) трапеза, это около 12–13 ч. дня. И опять послушания, после них — вечерняя трапеза, это часов 18. после неё — или послушание или келейное правило, в 23 часа отходят ко сну, и так — каждый день.
— Непохоже, владыко, чтобы у Вас был такой образ жизни…
Владыка: Я монах, можно сказать, в прошлом (улыбается), хотя обеты давал на всю жизнь. К сожалению, я не имею возможности придерживаться иноческого устава просто потому, что моё послушание не позволяет мне этого. Когда я жил в монастыре 9 лет, то с удовольствием подчинялся монашескому уставу. Это была вторая моя сущность — я, вообще, люблю подчиняться и не имею склонности руководить. Но поскольку Святейший патриарх благословил меня руководить епархией, я обязан делать это. Но этот долг исключает почти всё, что связано с уставом, я пытаюсь поддерживать огонёк, который зажёг во мне монастырь, но другими средствами.
— По каким причинам и через что человек приходит к монашеству?
Владыка: Монашество — это призвание. Не каждый может хорошо петь или быть спортсменом. Это путь, для прохождения которого нужно иметь определенные данные, призвание. А как это призвание проявляется и когда зависит от человека и от Господа, конечно. Некоторые вдруг понимают, что монашество – это их путь, когда их посетят великие скорби, и далее уже не видят возможности далее существовать в миру, тогда идут в монастырь. Некоторые – и в разных ситуациях и в разное время это происходит – вдруг понимают, что больше жить без Бога они не могут, настолько велика их к нему любовь. И тоже оставляют мир со всеми его прелестями и идут в монастырь. Либо по грехам идёт человек в монастырь, либо от великой любви к Богу.
— Если в монашескую жизнь человека приводят скорби, значит, в монастырь можно бежать от земных бед?
Владыка: Скорби посещают человека по нескольким причинам, просто так они ни к кому не приходят. Как говорил Воланд, кирпич на голову никому просто так не падает. Святитель Игнатий говорил, что скорби – это признак добрый, хоть неприятно, но полезно. Я живу в миру и веду неправедную жизнь, мне Господь даёт болезни, беды, чтоб я одумался и исправился. Я могу воспринять знак, измениться, и всё у меня наладится, а могу попытаться сбежать от скорбей в монастырь. Этот поступок будет неправильным – монастырская жизнь ничего не даст, с собой в монастырь свои проблемы и принесу, а они там, вопреки ожиданию никуда не исчезнут, а преумножатся, потому что жизнь в монастыре – это вовсе не сахар. Там испытаний гораздо больше, чем в миру.
— Если человек родился монахом, как Вы говорите, но не пришёл к этому подвигу, что же он будет всю жизнь несчастлив? Или наоборот не тот человек в монастырь идёт…
Владыка: Я не могу сказать, что он будет несчастлив, он будет искать своё предназначение всю жизнь, а значит, этого ему будет не хватать для полноты счастья.
А. Л.: В полной мере счастлив. Ведь нельзя ставить стену между жизнью мирской и монашеской. Часто говорят, что семейное послушание православного включает почти те же послушания, что несут монахи, но они выражены в другой форме. И человек может прожить жизнь в миру, может даже при церкви, священником, например, но он не раскроется так полно, как раскрылся бы, уйдя в монастырь, и наоборот: не призванный к иночеству, но ушедший в монастырь, тоже не найдёт себя во всей полноте.
— А как человеку узнать, что его путь – иночество, чтоб он не метался и точно обрёл своё место в жизни?
Владыка: Если бы этот поиск совершался одной стороной, то можно было ответить на этот вопрос, но это путь двух сторон – человек идёт и Господь идёт, причём Господь проходит гораздо большую часть пути. Рано или поздно, если человек неудовлетворён своим состоянием в жизни, Господь даёт ему понять – это не твой путь, твой – вот этот. Через старца какого-нибудь или в фильме увидел монастырь и потянуло или побывал в монастыре. Так, допустим, со мной было: не было никаких откровений, видений или внезапных поворотов в жизни, я жил в миру, занимался наукой, готовил к защите кандидатскую, возглавлял лабораторию, но где-то я понимал, что это не моё, я не готов с этим связать свою жизнь окончательно. Были попытки поиска: и в искусстве себя искал, и в спорте, и в психологии, в философии,— всё не моё… И вдруг я познакомился с человеком, который был монахом и иереем, возглавлял епархию, этот человек меня заинтересовал своей особенной жизнью, которой я раньше не знал – монашеской жизнью. Стал интересоваться больше, крестился под его руководством, а когда, взяв отпуск на работе, я попал в монастырь, в монашескую келью в качестве послушника, я понял, что это – моё.
— Владыко, насколько я знаю, Вы были тогда человеком несемейным, простите, что говорю об этом, но ведь, могла быть и семья уже, а Вы вдруг поняли… И что тогда?
Владыка: Ждать и терпеть. Семью нельзя бросить ни в коем случае, ты взял ответственность за женщину, за детей, они тебя любят. Нужно ждать, когда дети станут самостоятельными, супруга добровольно, а невынужденно, даст своё согласие уйти в монастырь. И потом, Вы знаете, если Господу угодно, он всё совершит так, что все останутся счастливы. Допустим, когда я был молодым человеком, у меня несколько раз возникало желание создать семью. Были девушки, к которым я испытывал склонность, но в самый последний момент всё само собой расстраивалось и распадалось, при чём без взаимных драм. Я задавал себе вопрос, почему я не могу создать семью, но лишь теперь ретроспективно оглядываясь на свою жизнь, я вижу: Господу было угодно проложить мне иной путь и он так всё устроил.
М. Д.: Существует институт послушничества: если человек хочет стать монахом, он может прибыть в монастырь, поселиться там и пожить этой жизнью, ещё не давая обета. Испытать себя, и потом уже делать какой-либо выбор. И по статистике примерно, из 10 послушников примерно 1 становится монахом…
Иногда люди годами живут в монастыре, во всём подобно жизни монахов, но даже спустя несколько лет убеждаются, что их путь – другой, ничего страшного нет, когда человек уходит, если он обета ещё не давал.
Владыка: Он получает от этого огромную пользу. В нашем монастыре было несколько послушников, которые после нескольких лет послушничества уходили из монастыря, заводили семьи, и жёны их до сих пор благодарят и Бога, и монастырь, и меня – это идеальные мужья, я посоветую молодым людям и девушкам, прежде чем заводить семьи, пройти хорошую пусть немноголетнюю монастырскую школу.
А. Л.: А на деле – это несложно. В миру бытует мнение, что монастырь – это некий клан чернецов, тайный орден, со степенями посвящения. Нет, да вот же они – наши монастыри, все рядышком. Большинство наших читателей их знают, особенно женский монастырь во имя иконы Казанской Божьей матери в п. Мутновском, а мужской монастырь находится вообще в черте Петропавловска, на спуске из п. Сероглазка к Мехзаводу. Там даже ворот нет! Бери благословение у отца настоятеля или у владыки и входи, коли душа просит.
— Наверное, влыдыко, в Вашей жизни часто бывают примеры, когда люди приходят и говорят: «Я хочу быть монахом, владыка благословите».
Владыка: Бывают и часто, я всегда выясняю причины. Пример. Приходит ко мне женщина: «Я устала от мужа, от детей, устала от работы. Хочу остаток дней (а она ещё достаточно молодая) прожить в покое и душевном мире». Я сказал ей, что её проблема – она сама, монастырь не только не избавит её от бед, но и усугубит их. Проблема взаимопонимания с ближним (а ведь именно на это пожаловалась женщина) возникнет в общении с сёстрами, с игуменьей – только сильней: оттуда не уйдёшь, никому не пожалуешься, там – это будет твой крест. Я установил ей молитвенное правило, сказал, когда приходить в церковь, как часто исповедоваться…
— И что стало лучше?
Владыка: Во всяком случае, в монастырь она больше не хочет. Отношения с близкими больше не такие напряжённые.
Есть люди, по которым я вижу, что им подходит монашеское служение.
— Вы это с первого взгляда определяете?
Владыка: Иногда да. Чаще нужно время, чтобы это понять. Но и в том и в другом случае я тщательно испытываю человека.
Был ещё один случай, очень показательный. А связан он с нынешним наместником мужского нашего монастыря в честь Всех святых – с отцом Антонием. Он был студентом 3–го курса, когда пришёл ко мне и сказал: «Хочу в монастырь». Я ответил: «Нет. Походи в наш молодёжный православный клуб». Стал он клуб посещать, и опять: «В монастырь хочу». Я ему предложил с хорошей девушкой познакомиться, нашли девушку. «Что делать?» — спрашивает. «Ты, молодой парень, у монаха спрашиваешь, что делать? Сходи в гости к ней и её матери, посмотри, чем помочь мужчина в доме может». Приходит, всё сделал, опять спрашивает, что дальше. Я предложил девушку пригласить к себе – чтоб борщ сварила, рубашки погладила. Погладила, сварила. «Что дальше?» – он меня опять спрашивает; чувствую, что к семейной жизни пока его не тянет. А тут он как раз оканчивает университет – «в монахи хочу». Спрашиваю, что мама говорит, он отвечает, что мама не благословляет, мама хочет, чтоб в армию пошёл. Я благословил идти в армию. Начал он устраиваться, сначала – к ректору пошёл, тот его направил к начальнику военной кафедры, оттуда — в военкомат – и у всех одинаковое изумление: человек в армию просится! Из военкомата направили на военные корабли искать, кто возьмёт. Обошёл все – никто не берёт. Удивительное дело – здоровый, крепкий физически и духовно парень, сам просится – и не берут. Значит, нет воли Божьей. А тут как раз открывался морской колледж, и директор попросил помочь с преподавателем, я будущего отца Антония, тогда просто Алексея, туда и отправил. Он жил в монастыре, исполнял монашеские уставы, утром, вечером; постился по монашески, а послушание нёс в этом колледже: был зав. кабинетом, две лаборатории вёл, лекции читал, классное руководство имел… Это колоссальная нагрузка – выдержал.
— И это уже не год и даже не два он мечтал о монашестве.
Владыка: Несколько лет всё нёс. И тут как раз мама согласилась отпустить его в монастырь. И только тогда он принял постриг. И ни я, ни он не пожалели об этом, для того, такую проверку человек и проходит, ведь этот шаг он делает навсегда, пути назад нет.
— Многие уходят в монашество молодыми, не создав семьи, не произведя детей. Так получается, монастыри стоят на пути роста нашей и без того худой демографии?
Владыка: Если рассуждать по-мирски, то эта проблема не разрешима. Молодые, хорошие парни «даром пропадают», а их и так мало в стране (не на Камчатке, правда, у нас мужчин больше), общественность не может не возмутиться. Я помню, одна женщина пришла к нам в монастырь, и её глазами — там парни здоровые живут в одиночестве, посвятили себя непонятно чему, эгоисты такие, она и говорит мне: «Такой генофонд пропадает!» Действительно, с позиции светского человека картина несправедлива и возмутительна. Но поверьте – над всем Господь. И если какую-то часть людей предназначил для иночества, значит, оно нужно человеку, нужно народу и обществу. Вся Россия всегда приходила в монастыри, чтобы духовно обогатиться и окрепнуть, почерпнуть чистоты и светлости, накопленных монашеским трудом, утешиться и укрепиться.
М. Д.: Не от монахов у нас семейный кризис, понимаете. Их всего 7 человек на всю Камчатку! Монастырь у нас всего один, а сколько ночных, игровых клубов, казино.
Владыка: Вот они-то по семьям самый большой удар наносят: на 10 браков по статистике 9 разводов.
М. Д.: На Руси ещё было подмечено – где сильное монашество, там – сильные и многодетные семьи, именно потому что люди у монахов учатся.
Мы на примере монашеского жития видим ту часть Царства Божия, которая может быть воплощена на Земле. Все житейские беды становятся настолько неважными, если знаешь, что есть опора в виде монастырей, духовных защитников и окормителей наших.
На этой позитивной ноте и с уверенностью, что все мужчины от нас не уйдут в монастырь, закончим наш разговор и пожелаем добра и мира нашим читателям!





