6 июня по установившейся традиции празднуется день рождения Пушкина. Именно по установившейся традиции. Потому что человек, носивший имя Александра Сергеевича Пушкина, пришел в этот мир 26 мая – по юлианскому календарю, по какому жила Россия на протяжении всей почти своей истории, до 1918 года. Мы вот уже без малого 100 лет живем в ногу со «всем цивилизованным человечеством» – по календарю григорианскому. И, переведя 26 мая «старого стиля» на стиль «новый» (как иронично-символичны эти определения: «старый», «новый»!), получим иную дату рождения поэта – 8 июня. Но, может быть, это и хорошо, что пушкинский день мы отмечаем 6 июня: получается, что чествуем мы что-то иное, а не рождение конкретного человека – грешного, хоть и гениального. Условность даты переносит в другое измерение – символическое. Ведь и сам Пушкин давно стал символом – русской культуры, русского человека, Творчества.
***

«Пушкин и святой Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности – несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и оттого, что у нее отняли бы Пушкина, и оттого, что отняли бы Серафима.
«Для судьбы России… лучше ли было бы, если бы жили не великий святой Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима?»
И вот я спрашиваю: для судьбы России, для судьбы мира, для целей Промысла Божьего лучше ли было бы, если бы в России в начале XIX века жили не великий святой Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима, два святых – святой Серафим в губернии Тамбовской и святой Александр в губернии Псковской? Если бы Александр Пушкин был святым, подобным святому Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом. Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинской, лишенной религиозной ценности, несовершенством и грехом.
Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтом, а не святым, подобным Серафиму. Лучше было бы для божественных целей, чтобы в России жили два святых, а не один святой и один гений-поэт. Дело Пушкина не может быть религиозно оценено, ибо гениальность не признается путем духовного восхождения, творчество гения не считается религиозным деланием. “Мирское” делание Пушкина не может быть сравниваемо с “духовным” делением святого Серафима. В лучшем случае, творческое дело Пушкина допускается и оправдывается религиозным сознанием, но не опознают в нем дела религиозного. Лучше и Пушкину было бы быть подобным Серафиму, уйти от мира в монастырь, вступить на путь аскетического духовного подвига. Россия в этом случае лишилась бы величайшего своего гения, обеднела бы творчеством, но творчество гения есть лишь обратная сторона греха и религиозной немощи.
Так думают отцы и учителя религии искупления. Для дела искупления не нужно творчества, не нужно гениальности – нужна лишь святость. Святой творит самого себя, иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя спасает. Творчество великих ценностей может губить. Святой Серафим ничего не творил, кроме самого себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для России и для мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого есть, прежде всего, самоустроение. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе. Путь личного очищения и восхождения (в иогизме, в христианской аскетике, в толстовстве, в оккультизме) может быть враждебен творчеству.
И вот рождается вопрос: в жертве гения, в его творческом исступлении нет ли иной святости перед Богом, иного религиозного делания, равнодостойного канонической святости? Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости. Творчество гения есть не “мирское”, а “духовное” делание. Благословенно то, что жил у нас святой Серафим и гений Пушкин, а не два святых. Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима. И горе, если бы не был нам дан свыше гений Пушкина, и несколько святых не могло бы в этом горе утешить. С одной святостью Серафима без гения Пушкина не достигается творческая цель мира. Не только не все могут быть святыми, но и не все должны быть святыми, не все предназначены Богом к святости. Святость есть избрание и назначение. В святости есть призвание. И религиозно не должен вступать на путь святости тот, кто не призван и не предназначен. Религиозным преступлением перед Богом и миром было бы, если бы Пушкин, в бессильных потугах стать святым, перестал творить, не писал бы стихов. Идея призвания по существу своему идея религиозная, а не “мирская”, и исполнение призвания есть религиозный долг. Тот, кто не исполняет своего призвания, кто зарывает в землю дары, совершает тяжкий грех перед Богом. К пути гениальности человек бывает так же избран и предназначен, как и к пути святости. Есть обреченность гениальности, как и обреченность святости. Пушкин был обреченным гением-творцом, и он не только не мог быть святым, но и не должен, не смел им быть.
В творческой гениальности Пушкина накоплялся опыт творческой мировой эпохи, эпохи религиозной. Во всякой подлинной творческой гениальности накоплялась святость творческой эпохи, святость иная, более жертвенная, чем святость аскетическая и каноническая. Гениальность и есть иная святость, но она может быть религиозно осознана и канонизирована лишь в откровении творчества. Гениальность – святость дерзновения, а не святость послушания. Жизнь не может быть до конца растворена в святости, без остатка возвышенно гармонизирована и логизирована. (Здесь и выше выделено мной. – С.М.)
Быть может, Богу не всегда угодна благочестивая покорность. В темных недрах жизни навеки остается бунтующая и богоборствующая кровь и бьет свободный творческий источник».
Оставляя до поры свои возражения автору не цитировавшихся здесь пассажей об умном делании и «иогизме», о «старости христианства», о «нежизненности призывов к покаянию» и т.п., начну с малых быстротечных замечаний, поскольку их сделать проще.
Отчего-то Бердяев помещает святого Серафима в губернию Тамбовскую, хотя праведник родился в Курске, а подвизался в Нижегородчине. И Пушкин – родился в Москве, затем учился и жил в Петербурге и лишь 18-летним юношей (ровно в середине своего земного пути) впервые попал в Михайловское, то есть во Псковскую губернию. (Хотя, конечно, родовые и, полагаю, духовные корни его – именно в Святогорье.) Но это – био-географические детали.
Нет возможности согласиться с мыслителем, что святой спасает только лишь себя.
Монах, несмотря на то, что он «моно», один, – спасает человечество и субъективно, молясь за всех, чаще всего и окормляя мирян – подобно старцам – в личном общении, и самим фактом существования (мир знает о нем, о его подвиге), а также объективно: Господь спасает многих ради молитв и праведного подвига единицы (единиц). Это – очевидность еще ветхозаветная. Достаточно вспомнить Содом и Гоморру и дерзновенное препинание Авраама с Господом о количестве праведников, ради которых может быть спасен город.
И, наконец, ох уж этот «свободный творческий источник», да еще и с «богоборствующей кровью» в придачу! Насмотрелись и наелись уже и при жизни Бердяева, и после, и особливо ныне.
Убежден: когда в человеке упразднена «святость послушания», тогда в нем не сыщется вовеки и «святость дерзновения». Уж Пушкин-то, думается, в последние свои годы понимал это как никто.
Святитель Тихон Задонский, скончавшийся за 16 лет до рождения Пушкина, сказал: «Для чего вам дали этот дар? Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем».
«Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на других…»
А вот слова, сказанные уже после смерти поэта – праведником Иоанном Кронштадтским: «Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на других; образец – природа: солнце не удерживает в себе одном свет, но изливает его на луну… Не должно ни у кого и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию пишущею рукою, или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил своих и возможности. Таланты надо употреблять в дело. Коли будешь задумываться об этом простом деле, то диавол, пожалуй, внушит тебе нелепость, что тебе надо иметь только внутреннее делание».
Пожалуй, и внушит.
Отсюда и пушкинская «слабость духа» в сочинении «Дар напрасный, дар случайный…» Но эти строки (как и состояние, их породившее) не только – свидетельство гордыни (уж самолюбия и амбиций Пушкину было не занимать), но и понятной по-человечески рефлексии художника, усомнившегося в совершенстве собственных сочинений и в действенности его слова в среде людей, в нужности и востребованности этого слова.
«С мирской точки зрения талантами считаются ум, ученость, музыкальные или художественные способности. Они не греховны, и хорошо, когда такую способность совмещают с христианской жизнью, когда посвящают ее Богу. Если же эта способность мешает жить по Богу и спасать свою душу, то ее следует оставить. Лучше быть поглупее и попроще, но спастись. Что пользы тебе, если ты весь мир приобретешь, душу же свою погубишь?» (преподобный Никон Оптинский).
О том, что не всё так просто в творчестве, что оно может иметь греховную природу, дерзновенно пародируя Творца (а за сие полагается воздаянье), хотя бы и эти пушкинские строки:
Что с тобой, скажи мне, братец?
Бледен ты, как святотатец,
Волоса стоят горой!
Или с девой молодой
Пойман был ты у забора,
И, приняв тебя за вора,
Сторож гнался за тобой,
Иль смущен ты привиденьем,
Иль за тяжкие грехи,
Мучась диким вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи?
Самоиронично сказано, и вдохновенье названо «диким». Кто бы мог ждать такого понижения штиля? Ан у Пушкина оно столь же естественно, как и возвышение; именно в этих волнах, в этом чередовании и есть композиторское искусство. Воистину – «веселое имя Пушкин»!
Вот – из того ж Михайловского, из письма к возлюбленному другу П. Вяземскому – на эту же тему: трезвого понимания ограниченности своих полномочий, своего дара (к слову, в таком трезвении тоже – прямо христианское смирение):
В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной.
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней.
Кто еще так вольно мог говорить о творчестве? Только тот, кто сам есть воплощение творчества.
Кто еще так вольно мог говорить о творчестве? Только тот, кто сам есть воплощение творчества. А уж обывателю совсем малопонятно такое отношение, «изнутри», из рабочего кабинета.
В «испражненьи прежних дней» немало шедевров – стоит лишь взглянуть на список пушкинских сочинений до 1825 года. Но Пушкин-то, в «Разговоре книгопродавца с поэтом» вдохновенье назвавший «признаком Бога», знал, что «…крайнее безумие — гордиться Божиими дарованиями» (преподобный Иоанн Лествичник).
И, наконец, главное в нашем продолжении бердяевской тезы «Пушкин – Саровский».
Мне не кажется достаточным это «дуо». Когда речь идет о двух, всегда есть соблазн впасть в противопоставление частей, составляющих пару, в ущерб пониманию их взаимодополнительности.
В чем не может быть вольного или невольного противопоставления, так это в троице.
Николай Пунин в слове о рублевской иконе Святой Троицы сказал: «…пусть это – одна душа, но у нее три формы, и она трепещет в приходящих по-разному этих формах... тончайшее разделение внутренне и внешне связанных состояний духа...»
Я клоню к тому, что с преподобным Серафимом Саровским и Александром Пушкиным должен быть третий. Непременно должен.
«Религия, искусство и наука. Выкиньте что-то… – будет лишь анализ без полного синтеза, получится неустойчивая и слащавая шаткость».
Ученый муж Д. Менделеев, вышедший, как, к примеру, и В. Вернадский, из семьи священника, писал в «Заветных мыслях»: «Хочется-то мне выразить заветнейшую мысль о нераздельности и сочетанности таких отдельных граней познания, каковы: вещество, сила и дух; инстинкт, разум и воля; свобода, труд и долг. Последний должно признать по отношению к семье, родине и человечеству, а высшее сознание всего этого – выраженным в религии, искусстве и науке. Выкиньте что-то из каждой троицы – будет лишь анализ без полного синтеза, получится неустойчивая и слащавая шаткость, а в образовавшуюся пустоту того и гляди проникнет отчаяние либо ворвется какой-то вздор, не выдерживающий первичной критики».
Что ж, это нам близко. Поищем третьего – исходя из троичности, учитывая триаду, «русскую троицу». Отводя, по Менделееву, преподобного Серафима Саровского – религии, Александра Пушкина – искусству, следует дополнителя в триаде русского космоса разглядеть в науке. Эпоха, разумеется, должна быть той же. Ведь мы рассматриваем хоть и чрезвычайную волну, но одну.
Как вам покажется в этом ракурсе Николай Иванович Лобачевский?
Родившийся в 1792 году – позже Прохора Мошнина (преподобного Серафима Саровского), но на семь лет раньше Александра Пушкина. Умерший последним в этой троице – в 1856 году.
Коля Лобачевский родился в Макарьевском уезде Нижегородской губернии. Это та самая губерния, где совершил свои духовные подвиги преподобный Серафим.
11 февраля 1826 года на заседании отделения физико-математических наук Казанского университета Лобачевский доложил о результатах своего нового исследования. Доклад назывался «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллелях» и содержал начала неевклидовой геометрии – открытия, совершившего переворот в представлении о природе пространства. Скромное исследование, совпадающее с великим Евклидом в четырех геометрических постулатах, но заменяющее последний, пятый, на противоположный: через точку, не лежащую на данной прямой, проходят, по крайней мере, две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Открытие Лобачевского, опубликованное в 1829–1930 годах, не получившее признания современников, совершило переворот в представлении о природе пространства, в основе которого более 2 тысяч лет лежало учение Евклида, и оказало огромное влияние на развитие математического мышления. Мы до сих пор вряд ли осознаем революционность этого открытия.
Он стал профессором университета в 24 года, в 33 – ректором (всего он шестикратно избирался на должность ректора Казанского университета, в течение почти двух десятилетий – с 1827 по 1846 гг.).
В 1837 году труды Лобачевского были опубликованы на французском языке, а в 1840 году – на немецком. И заслужили признание великого Гаусса (следует вспомнить, что сам Лобачевский был в математике как бы «внуком» Карла Фридриха Гаусса, поскольку учился у профессора Бартельса, воспитанника знаменитого немца). В России же Лобачевский не видел оценки своих научных трудов. Очевидно, его исследования находились за пределами понимания современников. Одни игнорировали его, другие встречали его работы грубыми насмешками и даже бранью.
Геометрия Лобачевского включает в себя геометрию Евклида не как частный, а как особый случай. Изучение свойств пространств в общем виде составляет теперь неевклидову геометрию, сегодня известную всему миру как геометрия Лобачевского. Пространство Лобачевского есть пространство трех измерений, отличающееся от нашего тем, что в нем не имеет места постулат Евклида. Основываясь на работах Лобачевского и постулатах Римана, Альберт Эйнштейн, уже в ХХ веке, создал теорию относительности, подтвердившую искривленность нашего пространства. Теория Эйнштейна была многократно подтверждена астрономическими наблюдениями, в результате которых стало ясно, что геометрия Лобачевского является одним из фундаментальных представлений об окружающей нас Вселенной.
Лобачевский – автор трудов по алгебре, математическому анализу, теории вероятностей, механике, физике и астрономии. Финал активной и плодотворной деятельности ученого – истинно русский. После 30-летней профессорской деятельности министерство отказало в ходатайстве Совета университета об оставлении Лобачевского на кафедре.
Министерские интриги, господа!
Лобачевский получил назначение помощника попечителя учебного округа, что, по словам одного из биографов, «могло его утешить так же, как Пушкина несвоевременное назначение камер-юнкером».
Занимательно, что в этой цитате, как и в наших размышлениях, тоже появляется имя Пушкина.
Умирая, он произнес с горечью: «И человек родился, чтобы умереть».
Не видя вокруг себя людей, проникнутых его идеями, Лобачевский думал, что эти идеи погибнут вместе с ним. Умирая, он произнес с горечью: «И человек родился, чтобы умереть». Его не стало 12 февраля 1856 года.
Вот что написал отец Павел Флоренский о рублевской «Троице»:
«Нас умиляет, поражает и почти ожигает в произведении Рублева вовсе не сюжет, не число “три”, не чаша за столом и не крила, а внезапно сдернутая пред нами завеса ноуменального мира (выделено мной. – С.М.), и нам, в порядке эстетическом, важно не то, какими средствами достиг иконописец этой обнаженности ноуменального и были ли в чьих-либо других руках те же краски и те же приемы, – а то, что он воистину передал нам узренное им откровение. Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, “свышний мир” горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире не равную лазурь – более небесную, чем само земное небо, да, эту воистину пренебесную лазурь, несказанную мечту протосковавшего о ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы».
Да, мы избрали троичный пример из иной, не рублевской, не сергиево-радонежской эпохи, но разве и не о наших героях слова эти?
Взаимодополнение, соперетекание друг в друга трех составляющих триады таковы, что порой нет никакой возможности вычленить пресловутое «одно». Думается, в таком вычленении по самому большому счету нет необходимости (прикладная необходимость, быть может, и возникает иногда). Разве в речах преподобного Серафима, а более всего в знаменитой беседе с Н.А. Мотовиловым о стяжании Святого Духа, отсутствуют признаки искусства и науки? Или теория Лобачевского не прекрасна? И коль она есть прорыв к свету истины, то разве она не религиозна?
Преподобный Исаак Сирин заметил в VII веке: «Если твое делание благоугодно Богу и Он даст тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум: каким образом смириться тебе при даровании, потому что не все могут сохранить дарование безвредно для себя». Как нам важны здесь не только «дар», но и «разум»!
А уж разве не религиозны лучшие пушкинские произведения?
Финал сочинения 1825 года «Люблю ваш сумрак неизвестный…»:
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я…
Это отчетливо религиозное сочинение, обладающее мощью прямого, проповеднического действия. Эмоциональная сила элегической грусти такова, что читатель сразу, немедленно и всецело включается в сопереживание, узнавая, прежде всего, свои собственные чувства…
Мне могут возразить: мол, углы обозначенного мной треугольника (хоть и вписанного в круг) разновелики. Но…
Мне могут возразить: мол, углы обозначенного мной треугольника (хоть и вписанного в круг) разновелики. Но разве это только проблема изливающих свет – в том, что мы в разной мере способны его усвоить, принять? Безусловно, среди названных троих Пушкин известен (условно допустим, что и усвоен) больше, чем остальные. С высокой точностью можно было десять лет назад считать, что хоть с толикой его наследия знаком каждый русский человек. (Сегодня резко возросло число безграмотных – за счет появления сотен тысяч беспризорных детей.) Преподобный Серафим был заслонен от народа (в том числе и по вине самого народа) в течение семи десятилетий большевизма. С открытиями Николая Лобачевского и сегодня знакомы лишь единицы. Однако светы длятся. И «равновесие» светов может возникнуть в чуть более дальней перспективе. Во всяком случае, худо-бедно в «религиозной» составляющей перспектива такого выравнивания наметилась. С наукой же всегда было трудней. Особенно тяжко ей сегодня, в пору «реформирования» системы образования. («Мы рушим на века, и лишь на годы строим…» – написал харьковчанин Б. Чичибабин.)
Быть может, в случае с нашими великими Серафимом, Александром и Николаем мы имеем дело даже не с тройственным аккордом, а (как сказал в связи с «Троицей» Рублева искусствовед Вяч. Щепкин в статье «Душа русского народа в его искусстве», 1920) с «цельным дуновением»?






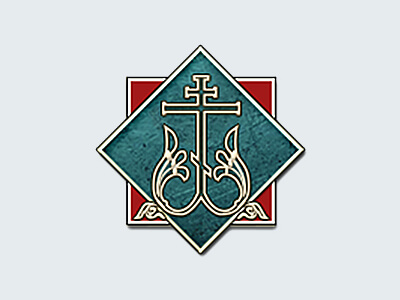

Александр Сергеевич Пушкин родился не в 20-м веке, а в 18-м, поэтому к дате его рождения по Юлианскому календарю нужно прибавлять не 13 дней, а 11. Поэтому, 6 июня - это точная дата.
по поводу "Пушкина читают все".
В детстве, - да, всем и все читали сказки.
В школе, - да, все проходили Пушкина.
А дальше?... - всё, точка. Только помним школьное внушение, что Пушкин, - это "наше всё". (ну, ежели не в литературном окружении, а в обычной жизни живешь, естественно)
Простите, по себе сужу, - сам из Пушкина только Е.Онегина перечитал после школы с удовольствием. Огромным удовольствием.
Простите.
Отцу Сергию хотела бы сказать, батюшка я молюсь о упокоении 3х любимых писателей Александра ( Пушкина ),Александра ( Грина ) и Александра Исаевича Солженицына.