Есть на земле места, только одним своим видом сильно действующие на человека. Когда мы встречаем что-то поразительное само по себе, пусть даже только с внешней стороны, впечатление будет глубоким вне зависимости от того, знаем мы что-то об этом месте или нет. Например, если кто-то впервые побывал в Греции, то не сможет не плениться красотой Эллады, пусть даже он не прочитал ни одной книжки о греческой культуре. Или, скажем, человек никогда раньше не видел Кельнский собор, а теперь вот стоит рядом и смотрит, открыв рот. Наблюдатель еще не знает, сколько лет строили храм и какие события с ним связаны, но он уже потрясен. Устремленная ввысь готическая громада нависает над ним, и любой, даже самый большой в мире человек неминуемо почувствует себя муравьем перед этим каменным колоссом.
Но есть места, красота и смысл которых скрыты в истории. О них нужно читать, смотреть фильмы, говорить со знающими людьми – и до посещения этих объектов, и после. Внешне подобные места могут выглядеть совсем не броско. Например, по Варварке в Москве незнающий человек может пройти без остановок, обращая внимание разве только на виднеющиеся вдали стены Кремля. Подумаешь, старая московская улочка с множеством каких-то храмов – мало ли таких в Москве? Но если открыть книги по истории Китай-города, окажется, что здесь каждая пядь земли видела столько важнейших событий, сколько не уместится в многосерийный фильм. Прочитанный текст преобразит небольшую улочку в наглядное пособие по истории отечества, и старые здания расскажут очень многое.
К какому типу исторических мест относится Соловецкий архипелаг? И к первому, и ко второму. Острова оставляют глубокий след в душе своей мистической красотой и в то же время заставляют вспоминать все, что ранее было прочитано о Соловках. Впечатления внешние идут впереди, а за ними, как длинный хвост кометы, следуют имена, события, даты. И ты понимаешь, что прочитать надо гораздо больше, ибо ты знаешь лишь один процент из ста. По окончании паломничества руки тянутся к книгам, посвященным архипелагу. Все увиденное хочется примерить к фактам древней и новейшей истории островов.
Удивительная северная природа. Монастырь и его святые. Царская тюрьма и ее знаменитые узники. Монастырь как крепость. Войны со своими и чужими. Советский период, СЛОН и СТОН. Все это путается в уме, создавая какую-то сложную, но монолитную картину. Таковы Соловки – место небесной святости и адских беззаконий. Господь уготовал этим каменным островам великую, но трагичную историю. Так же, как и всей России.
***
Соловецкий архипелаг – шесть больших и более ста малых островов. Лес, тундра, камни вместо земли, омываемые холодными водами Белого моря. Царство ветра, воды, мха и все тех же камней. Человек здесь вообще смотрится странно. Есть ощущение, что монахи и паломники проникли во святая святых Поморья и подсматривают за тайнами природы, не предназначенными для наших глаз.
Лисицы с тощими животами и роскошными хвостами выходят из леса, мы кормим их хлебом. Монахи показывают фотографии огромных черных лосей, водящихся в лесу. Чайки, символ Соловков, долго летят вслед за катером, разрезая морскую тишину своими металлическими криками. Нерпы и тюлени периодически показывают из воды усатые морды, недовольно озираясь: кто посмел нарушить их покой? Первоначальное желание искупаться в Белом море исчезает после того, как мобильный интернет находит фотографию белухи, водящейся у Соловецких берегов. Тем более что летняя температура воды здесь от 8 до 10 градусов.
Тишина, покой, гармония, красота. И совсем не верится, что в 20–30-х годах прошлого века в каменистую землю Соловецких островов легли более 40000 узников трудового лагеря. Сегодня потомки находят в безвестных могилах их кости, отыскивают неотправленные письма, постепенно устанавливают фамилии, имена. Но цветущая природа Соловков, как подкупленный адвокат, тщательно укрывает следы страшного преступления безбожной власти против своего народа. Не верится, совсем не верится…
И только под Секирной горой, где «власть соловецкая» расстреливала и закапывала людей, доходит до сознания то, что произошло здесь еще совсем недавно. Словно какой-то неслышный шепот невинно убиенных, лежащих здесь, говорит сердцу: это было, было. К горлу подступают рыдания, и приходится отходить от группы в сторону, чтобы перевести дух.
Да, это было. Были издевательства и унижения, загубленные судьбы и разрушенные семьи. Были такие изощренные казни, что соловецкие узники читали случайно попавшую в лагерь книжку о пытках инквизиции как юмористическую литературу. В сравнении с теми, кого они увидели на Соловках, средневековые инквизиторы были милыми добродушными монахами. Соловецкие начальники не боялись ни Бога, ни черта и приобрели черную славу кровавых палачей еще с самого начала лагерной истории. Впоследствии большая часть из них попала в ту же сталинскую мясорубку, приняв премию за свою неустанную адскую работу в виде пистолетной пули.
Земля, напитанная кровью, как губка. Архипелаг, стоящий на камне и человеческих костях. Великий антиминс России.
***
Когда наш катер отходил от Кеми к Соловкам и в сознании появилась мысль: сколько же людей вот так же отплывало отсюда, понимая – дороги назад не будет. На эти беломорские волны, пенящиеся за бортом, глядело неисчислимое множество духовенства и мирян, отправленных умирать за свою твердость в вере. Большая часть не вернулась назад. Кто вернулся, почти все были расстреляны впоследствии.
О чем думали они, смотря на эти воды, как молились, что чувствовали? Ты, Господи, веси. И как они выстояли до конца, сохранив веру и совесть, тоже только Ты знаешь. Ты, Который и дал им силу терпеть то, что сам по себе человек не смог бы вытерпеть.
Лагерные Соловки – это страшное падение одних и восхождение на небо других
«Мужество тех, кто перед лицом мучителей и самой смерти сумел сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство, выводит исторический опыт Соловков далеко за рамки национальной истории России, вписывает драгоценную страницу в летопись человеческого духа», – писал наместник Соловецкого монастыря архимандрит Парфений. Да, лагерные Соловки – это страшное падение одних и восхождение на небо других. Поэтому, как только были нанесены на бумагу первые свидетельства соловецких узников, книги мгновенно разошлись по всему миру. Та же участь ждала воспоминания Шаламова, Солженицына, Ширяева, Волкова и других ГУЛАГовцев.
Люди разных языков и культур зачитывались этими строками, написанными кровью. В русской литературе появилось новое сокровище: лагерная проза. Почему про сталинские лагеря читали, читают и будут читать? Потому что эти книги открывают опыт великой победы человеческой веры. Конечно, далеко не все заключенные ГУЛАГа были христианами. Однако даже те, кто не исповедовал христианство, но сохранил в лагерном кошмаре совесть и человечность, верили в победу истины, добра, справедливости, милосердия. И Господь даровал им нравственную победу за их веру. Перед лицом мучительной смерти они остались людьми и не превратились в зверей, хотя звери в человеческом облике окружали их со всех сторон.
***
Соловки, Русский Север. Край земли. Слушая гида, иногда отвлекаешься и спрашиваешь сам себя: ты хоть осознаешь, где находишься? Ты понимаешь, что ты на Со-лов-ках?
Конечно же, понимание придет позже, когда все впечатления улягутся, оформятся в какое-то осознанное ощущение. Когда в десятый раз прокомментируешь фотографии очередному знакомому, поговоришь с кем-нибудь, кто там уже был, что-то почитаешь и посмотришь, подумаешь и помолишься. Но уже ясно одно – я уеду другим. Того, прежнего меня уже нет, потому что Соловки меняют душу. Нельзя так просто походить по этой святой земле. Нельзя просто сфотографироваться на фоне многотонных валунов Соловецкой крепости. Архипелаг и его история – это драгоценный Божий дар, а всякий подарок от Всевышнего обязывает меняться. Ты прикоснулся к великой святыне и уже не имеешь права жить как прежде.
***
Соловки. Иной мир, иная жизнь. Здесь время останавливается, земля соединяется с небом, и небо касается души, так что можно подтянуться на цыпочках и заглянуть в вечность.
Но наше паломничество заканчивается, пора возвращаться домой. И это хорошо, потому что голова и сердце уже полны, и новые впечатления просто не вмещаются. Да и быстро устает от всего великого и священного слабый, грешный человек.
Наш катер отходит от монастырской пристани, и постепенно отдаляющиеся купола монастыря вдруг ставят суровый вопрос: зачем ты приезжал сюда, на эту пропитанную кровью землю? Погулять? Нащелкать тысячи фотографий? Отдохнуть? Потревожить и без тебя вечно занятых и утомленных монахов?
Думаю над ответом и не без страха дерзаю отвечать.
Я приезжал помолчать – здесь тишина совсем другая, неотмирная тишина. Приезжал, чтобы поплакать. Здесь плачется хорошо – так, как после первой в жизни исповеди. Приезжал, чтобы нечто важное для себя понять – потому что здесь и думается по-другому. А еще я приезжал помолиться. Здесь теперь нужно много молиться, чтобы вулкан русской революционной Голгофы уже никогда не проснулся и на Соловках никогда не прерывалась монастырская жизнь.
А может быть, просто для того, чтобы сердце расслышало тот самый шепот: это было, было…











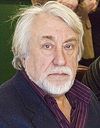

Забыть это святое место,не вспоминать о нем, невозможно.
Это суровое очарование Белого моря!Небо!Молитвой пропитан сам воздух!
Господи,Слава Тебе!
Ещё можно почитать письма Соловецкого узника академика Дмитрия Лихачёва.
И цитата в тексте принадлежит, наверное, действующему наместнику архимандриту Порфирию.