Подростки любой эпохи становились проблемой для себя и для окружающих – и в каждой эпохе проблему решали, как умели. В XXI веке инструментом помощи подросткам (и их папам и мамам) становится психологическое консультирование. В чём главная ошибка современных родителей и как работает механизм перестройки отношений, рассказала психолог Наталья Валерьевна Мотева.
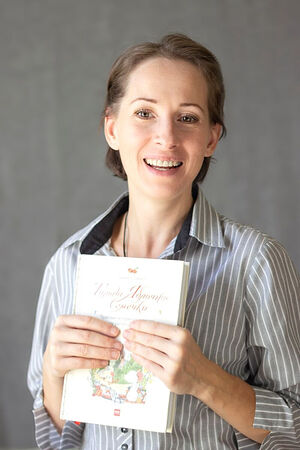 Наталья Валерьевна Мотева, психолог – Наталья Валерьевна, по каким вопросам к вам чаще всего обращаются родители проблемных детей?
Наталья Валерьевна Мотева, психолог – Наталья Валерьевна, по каким вопросам к вам чаще всего обращаются родители проблемных детей?
– Я работаю с семьями и детьми, находящимися в трудной или кризисной жизненной ситуации – детьми с повышенной тревожностью, депрессией, страхами, с самоповреждающим поведением и суицидальными мыслями. Сейчас есть печальная тенденция: многие учащиеся, даже младшеклассники, не хотят ходить в школу. Вообще.
С чем сейчас приходят родители? Ребёнок не хочет делать домашние задания. Школа требует, а он не хочет. Или вообще не хочет ходить в школу. У младшеклассников проблемы, как правило, проявляются на физическом уровне, они много и часто болеют. Иногда это не традиционные простуды, а нечто не совсем обычное: дети до крови обдирают заусенцы или у них волосы вылезают… Ответственные родители сначала ходят по врачам, сдают анализы; а когда врачи говорят, что всё хорошо, проблема в области психологии, тогда они приходят к нам. Часто выясняется, что такие дети сталкиваются в школе с травлей, но не одноклассниками, а учителем. Например, учитель всему классу показывает тетрадку и говорит: «Что это такое, какой кошмар». Не всегда в тетради действительно кошмар, порой учитель просто придирается. Мама говорит, что у детей в классе есть тетрадки гораздо хуже, но ругает она именно её ребёнка.
– Но такие проблемы были всегда; в позапрошлом веке вообще розгами наказывали детей. Это недопустимая крайность, разумеется, но всё-таки – почему сегодня дети так остро реагируют на замечания учителя?
– Существует интересный тезис: тяжелые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают легкие времена, легкие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают тяжелые времена. У нас было несколько десятилетий без войн, когда бомбы на наши города не падали, в холодильнике имелась еда, в шкафу одежда. В этом благополучии сменилось несколько поколений, и каждое становилось все более тревожным – есть даже исследования на эту тему. Если вы слышали про эксперимент «Вселенная-25», то вы знаете, что в длительных комфортных условиях живые существа становятся нежизнеспособными.
Наши бабушки и дедушки прошли войну, и у них вообще не было такого понятия, как депрессия. А для современного человека депрессия – это норма
Наши бабушки и дедушки принимали непосредственное участие в военных действиях, и у них вообще не было такого понятия, как депрессия. А для современного человека депрессия – это норма. Сейчас тенденция к увеличению числа подростков с кризисными проявлениями. Повреждающее поведение, мысли о самоубийстве, если не депрессия, то тревожность в 99 случаях из 100. Связно это и с ЕГЭ, и просто «я не могу идти в школу, у меня коленки дрожат». Вроде там все нормально, и одноклассники хорошие, и учительница не кричит…
– Чем вы можете помочь в таких ситуациях?
– Запрос от родителей чаще всего звучит так: сделайте что-нибудь, чтобы у него были друзья. Сделайте что-нибудь, чтобы он хорошо учился. Он вообще не хочет учиться; сделайте, чтобы он захотел учиться. Ты примерно видишь, в каком состоянии пришёл ребенок; начинаешь с ним разговаривать. Есть дети, которые сидят рядом с родителями, смотрят в пол и не реагируют на простые вопросы – такие требуют пристального внимания. У психолога есть протокол вопросов, которые он начинает задавать, если видит, что с ребёнком, возможно, что-то происходит. Там вопросы очень простые и очень точные: «Как ты себя чувствуешь от 1 до 10, где 1 – очень плохо, 10 – очень хорошо?» И ребёнок, предположим, говорит: «на четыре», «на три». – «Бывают ли у тебя такие мысли, что ты не хочешь жить? Бывают ли у тебя такие мысли, что ты хочешь умереть?» Ему же не надо распространённо отвечать, и он говорит: да. Да. Да. Выясняется, что ребёнок находится в кризисном состоянии. У него есть самоповреждающее поведение или мысли о смерти, к которым мы всегда относимся серьезно. Не факт, что ребенок завтра выйдет в окно, но это определенно группа риска. «А когда последний раз у тебя были подобные мысли?» – «Вчера или сегодня утром». И после такого короткого опроса родители говорят: «Да, это все понятно, но что же делать с учёбой? Как же нам быть с учёбой?».
– Родители присутствуют при опросе?
– Не всегда. Бывает, ребёнок говорит: «Я не буду отвечать при маме». В этом случае мама ждёт за дверью в коридоре. Но по закону Российской Федерации все вопросы здоровья и жизни ребёнка до 18-ти лет обсуждаются с родителями. И я в начале консультации всегда об этом предупреждаю. Часто дети возмущаются: «Я тогда вообще ничего вам не скажу». Но у меня есть контраргументы, и ребёнок в результате всё равно рассказывает, потому что понимает, что я могу ему помочь.
Если у ребёнка зафиксировано кризисное состояние, мы отправляем его на консультацию к психиатру, потому что, по мнению врача, такое состояние может требовать медикаментозный поддержки. На что родители говорят: «Ну нет, ему ещё в армию идти». Или: «А я хотел, чтобы он в ФСБ поступал. Нет, мы к психиатру не пойдём, можете просто сделать так, чтобы этого всего не было? Чтобы он начал нормально учиться и поступил в вуз?» Для меня это выглядит так, как будто у человека руки оторвало, а мы интересуемся, когда же он сможет полы мыть.
Часто требуется даже не работа с ребёнком, а работа с родителями
Значительная доля усилий уходит на разъяснения, чтобы родители приняли то, что происходит с их сыном или дочерью. Часто требуется даже не работа с ребёнком, а работа с родителями, чтобы они могли помочь ребёнку дома переживать, проживать то, что он сейчас переживает. Чтобы принимали его состояние всерьёз. У ребёнка нет опыта, нет бытовых психологических знаний, нет навыка, чтобы справиться самому.
– Часто ли встречаются ситуации, когда сами родители становятся причиной кризисного состояния своего ребёнка?
– Дети порой не рассказывают о том, что с ними происходит, из страха огорчить родителей. Мама и так работает как вол, а я ещё буду к ней со своими проблемами приставать; как-нибудь сам это переживу. А если рассказывают, родители в ответ нередко говорят: «Слушай, у меня в детстве тоже такое было, ничего страшного, перерастешь». Не могу сказать, что причина в родителях, но они могут усугубить такое состояние. Возможно, потому что действительно не могут понять, насколько это серьёзно в настоящее время. Классический разрыв поколений.
– Что вы отвечаете родителям на запрос: «Сделайте так, чтобы он захотел учиться»?
– Заставить захотеть никого нельзя. Вне моей компетенции заставить кого-то что-то захотеть. Сначала мы стабилизируем эмоциональное состояние, а уж потом возвращаемся к вопросу учёбы как таковой. И в этом как раз могут помочь родители, потому что надо иметь время на то, чтобы выстроить доверительные отношения с подростком, если они утратились. А с подростками такое случается часто, потому что их ведущая деятельность – общение, и общение именно со сверстниками, а не со взрослыми. Что важно понимать? Взрослые перестают быть авторитетом для подростков на какое-то время – или навсегда, если они этим не озаботятся. Весь опыт родителей ребёнком обесценивается, часто дети говорят: «Как угодно, но только не так, как вы». Это проходит годам к 16–18-ти, и в этот период важно не потерять с ребёнком доверительных отношений. Когда человек может рассказать вам, что происходит, он тем самым уже облегчает свою душу. Такие доверительные отношения помогают стабилизировать эмоциональное состояние, а это является первоочередной задачей.
– Как быть, если кризисное состояние – результат участия в интернет-сообществах, склоняющих, например, к суициду?
– Нет исследований, подтверждающих влияние групп в интернете или видеоигр на уровень агрессии подростка или на его склонность к суициду. Ученые много занимаются этим вопросом, особенно в последнее время, но системных исследований пока нет. Ребёнок идёт в эти группы, вроде нашумевшего «Синего кита», не потому, что он зомбирован ими – хотя и такое бывает. Но ребёнка, у которого всё хорошо, практически невозможно зомбировать: если все пойдут с крыши прыгать, он не пойдет. А если ему и так хочется «выпилиться», то он будет испытывать тягу к подобным группам, потому что там схожие проблемы у разных участников. И в этом случае, конечно, участие в группе может стать триггером разных неприятных ситуаций. Но я повторю, что влияние таких сообществ на психику ребёнка – не причина, а следствие.
– Вы православная христианка. Вера помогает вам в работе?
Если человек ведёт себя плохо, в 100% случаев это значит только одно: ему самому сейчас плохо
– Я строю отношения с родителями и детьми вне зависимости от возраста и конфессии, потому что психолог – это внеконфессиональная профессия. Свои убеждения я не декларирую; только если человек сам мне сообщает, что он православный, тогда мы можем говорить с ним на одном языке. Но у меня есть формула, которая по сути своей глубоко православная. Она звучит так: «Нет людей, которые хотят быть плохими». Человек с рождения до смертного одра хочет быть хорошим. Если человек ведёт себя плохо, в 100% случаев это значит только одно: ему самому сейчас плохо. То же самое я говорю подросткам: «Мама кричит на тебя не каждый раз, когда видит. Она кричит только тогда, когда ей самой плохо. И следующий вопрос: что мы делаем с человеком, которому плохо?» Ответ бывает таким: «А почему я должен что-то делать?» Но ведь мы говорим про взаимодействие. Когда ты помогаешь другому стабилизировать его эмоциональное состояние, ты перестаешь на него обижаться. Перестаешь злиться в ответ, потому что понимаешь, что человек кричит не на тебя, а тебе! Он кричит: «Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы мне было полегче!» Иногда достаточно сказать в ответ: «Мама, я вижу, что ты очень устала. Я могу что-нибудь для тебя сделать?» И окажется, что маме нужна не твоя уборка в комнате, а чаю с тобой попить. Или прогуляться. И когда знаешь, как человеку помочь, то и отношения улучшаются, и ты не заражаешься его гневом. Вот так мы это разбираем, и уходит на это не одна встреча.
– Насколько результативна ваша работа? Вы видите прогресс?
– Хороший вопрос. Дело в том, что я не занимаюсь психотерапией, я занимаюсь только психологическим консультированием. Этот формат работы отличается тем, что психолог не сопровождает клиента на пути к изменениям, как это происходит в психотерапии. Моя задача – забросить семена: донести до людей информацию, предложить другой образ мышления. Не надо ждать, что всё получится сразу, как по волшебству. Идите вперед маленькими шагами. Даже если вы совершили кучу ошибок и всё пошло, как раньше, вы можете сесть и подумать: а как бы я мог это сделать, если бы у меня были силы? Имея в виду ту информацию, которую получили от психолога-консультанта. И постепенно, по микронам, этот принцип приживется, и станет легче. Но я этого уже не вижу. Хотя иногда случайно встречаю ребят или родителей на улице или приходит смс, и мне говорят: «Спасибо вам большое, нам стало гораздо легче». И у меня становится тепло на душе.






