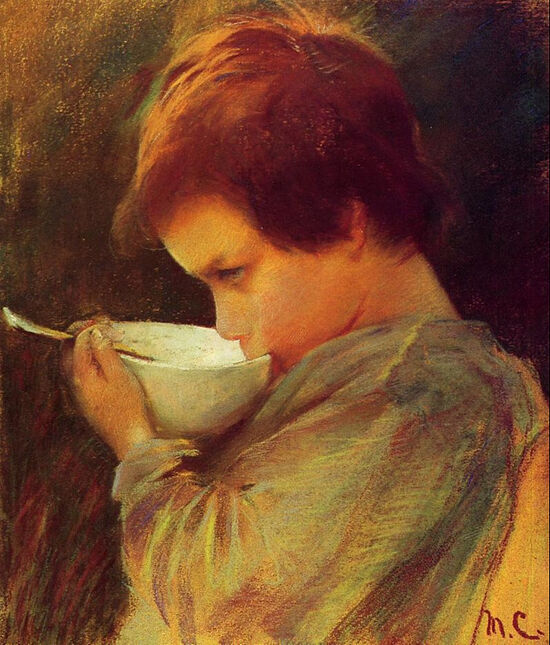Эта история случилась примерно через четверть века после войны, но услышала я ее в 1990-м году. В начале этого года в Пензе вернули Церкви Покровский собор на улице Чкалова. Ну, как «собор» – то, что от него осталось. Вокруг развалин уже весной начались работы, а Церкви отдали бывший дом причта, стоявший рядом, где и оборудовали «молельный дом». Так его все называли.
Нужда в нем была преогромная – на всю полумиллионную Пензу действовал лишь Успенский собор и маленькая Митрофаньевская церковь. А народ там был довольно-таки религиозный и к храму усердный. Поэтому по праздникам давка на службе творилась страшенная. И к тому же в Успенский собор было трудно добираться – и от остановок общественного транспорта далеко, и в гору подниматься очень уж крутую.
В общем, молельный дом открыли, и туда сразу же пришло множество прихожан. Вернее, прихожанок. Стареньких бабулек, которые казались мне все на одно лицо, по причине своих одинаковых бесформенных пальтишек и платков и моего плохого зрения.
Но с теми бабушками, которые помогали в храме, я познакомилась и начала довольно тесно общаться, пытаясь черпать информацию о вере, откуда только можно (на всякий случай поясняю, что в те времена из литературы было не достать даже Евангелия). Вот от них я эту историю и услышала.
***
Одной женщине, оставшейся в войну вдовой с пятью детьми, вполне удавалось-таки сводить концы с концами. У них была хорошая корова, а дом их находился не очень далеко от какого-то железнодорожного полустанка, и можно было ходить туда торговать молоком.
Сливки она снимала, а в молоко добавляла каплю морковного сока, чтоб оно смотрелось пожирнее, и продавала его на полустанке пассажирам поездов. Говорила, что «не снятое», а люди брали, не разобравшись, потому что торопились на поезд.
Она старалась для своих детей... но ведь и брали у нее для детей! На последнее порою брали... И это не легло покаянием на ее душу, напротив, соседок она корила в «неумении жить».
Она старалась для своих детей... но ведь и брали у нее для детей! На последнее порою брали
И вот закончилась война, прошел голод 1947 года, жизнь потихоньку наладилась, нужда ушла в прошлое. Дети этой женщины выросли и встали на ноги. Всё было хорошо, как вдруг один сын скоропостижно скончался. Не успела она его оплакать, как двое других детей разбились в ДТП. Одна насмерть, а второй в тяжелом состоянии оказался в больнице.
Ехала она от него из облцентра, сошла на том самом полустанке и, горько плача, побрела через лес к своему дому. А навстречу ей попался седой и благообразный дедушка.
– О чем плачешь?
– Помирает же, помирает! Доктора говорят, что не выживет! – ответила она, рыдая.
– Жалко деток-то? – спросил дедушка участливо.
Своим-то деткам сливочки, а чужим – водичку?
Женщина, не сообразив, с чего бы незнакомый человек так быстро понял, о ком речь, заголосила:
– Да как же не жалко-то? Да я же их родила, я их вырастила...
– А как вырастила? – с тем же участием спросил дедушка. – На чужих слезах?
– Как слезах? Каких слезах?!
– А таких... Своим-то деткам сливочки, а чужим – водичку?
Пораженная в самое сердце, женщина рухнула перед старчиком на колени. А когда подняла голову, никого уже не было.
***
Примечательно, что всю эту историю мои рассказчицы знали хоть и из вторых уст, но со слов самой этой женщины. Она считала, что явился ей святитель Николай, и рассказывала всё без утайки – и свою вину в первую очередь. Рассказывала и всё, и всем – в первую очередь соседкам, которых в голодные годы корила неумением жить. Рассказывала и, искренне каясь, старалась через свое сокрушение вымолить жизнь третьему ребенку...
К сожалению, моя память сохранила далеко не всё, и я не помню, выжил ли разбившийся сын женщины.