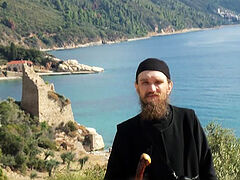Иллюстрация: епархияостровсахалин.рф
Иллюстрация: епархияостровсахалин.рф
Земля необетованная и безлюдная, с кочующими стадами диких коз, привольно размножающимися в долине великого Амура. С древних времен она принадлежала небольшому тунгусскому племени, мирно заселявшему ее бескрайние степи, пока не появились якутские казаки ради сбора ясака и завоевания диких народов. Они нашли в долинах рек Нигода, Шилка, Аргунь и Амур племена дауров и назвали их землю «Страна Даурия».
Отношение аборигенов к Православию было таким, что принявших святое Крещение считали погибшими и оплакивали как умерших
У земли этой своя история. Не богатая, но весьма поучительная.
Первые завоеватели, казаки и прочая вольница, были преданы религии и, продвигаясь на Восток царства Сибирского, часто брали с собой в путь священников и монахов для совершения треб и Таинств. Они принесли с собой в среду обитания язычников православные традиции и христианство, противостоявшие обрядам бродящих по диким степям шаманов, которые приносили животных в жертву идолам. Отношение аборигенов к Православию в те времена было таким, что принявших святое Крещение инородцев считали погибшими и оплакивали как умерших.
Время от времени кочующие в долинах Амура племена якутов и тунгусов посещали походные священники-миссионеры для проповедования христианства и совершения церковных треб. Путешествия духовенства были одиночными и опасными. Они преодолевали сотни верст по бездорожью на запряженных оленями или собаками санях, по глубоким снегам, в трескучие сорокоградусные морозы, от которых даже у местных жителей замирало дыхание и резало грудь. Провизию для себя и оленей всегда брали с собой.
В этих глухих местах не было ни селений, ни станций, ни постоялых дворов, чтобы укрыться от морозов. Ночевали где придется, под открытым небом на снегу, а чаще под снегом, застигнутые врасплох пургой. Сибирская пурга – самое страшное, что могло случиться в пути. Когда ураган нагонял снежные тучи и закрывал небосвод, приходилось терпеливо ждать его окончания. На подвернувшийся куст опрокидывали нарту против ветра, ее заносило сугробом, после чего раскапывали снег до земли и разжигали при входе в логово огонь. Так скрывались от бури день или два, а иногда и дольше. Перед тем как выйти наружу, привязывали себя к нарте веревкой, чтобы не потерять из виду, потому что пурга была настолько сильной, что вытянутой руки не было видно.
Вот так описывает один из походных священников в путевом журнале свои дни:
«Живя в темной тесной юрте, с двумя небольшими окнами, заделанными вместо стекол льдинами, я, обреченный на горькое одиночество, и не мог думать о какой-либо сносной обстановке, не говоря уже об удобствах. Суровая, самая неприглядная картина моей тихой, монотонной, “изо дня в день” жизни напоминала собою если не судьбу узника, то жизнь совершенного отшельника. Единственным собеседником являлся живший со мною якут, человек от природы полудикий, вялый и неподвижный. Обставленный исключительными условиями, я не прибегал к услугам своего умственно неразвитого собеседника и сам в себе совмещал обязанности повара, прачки и работника» (Отчет Комит. 1892 г.).
 Архиепископ Нил (Исакович) В 1844 году, по ходатайству Преосвященного Нила (Исаковича), в Якутской области были учреждены две походные церкви, к каждой из которых были приставлены по два священника. В одну из церквей получили назначение отец Никита Запольский и его близкий друг отец Димитрий Хитров, в будущем Якутский Преосвященный Дионисий. Каждый год они совершали по 10 тысяч верст пути, добираясь до отдаленных мест Якутского округа.
Архиепископ Нил (Исакович) В 1844 году, по ходатайству Преосвященного Нила (Исаковича), в Якутской области были учреждены две походные церкви, к каждой из которых были приставлены по два священника. В одну из церквей получили назначение отец Никита Запольский и его близкий друг отец Димитрий Хитров, в будущем Якутский Преосвященный Дионисий. Каждый год они совершали по 10 тысяч верст пути, добираясь до отдаленных мест Якутского округа.
В своих путевых дневниках Преосвященный Дионисий писал:
«В 1844 году, следствием ходатайства Преосвященного Нила, последовало Высочайшее повеление об учреждении в Якутской области двух походных церквей с двумя при каждой священниками. От Высокопреосвященного предложено было мне и товарищу моему Запольскому принять на себя это служение. Оба мы согласились и каждый год совершали пути до 10 тысяч верст, посещая почти все приходы Верхоянского и Колымского округа, а также отдаленные места Якутского округа, как то: край Оймяконский, Аллахюн (по Охотскому тракту), Нелкан (по Аянскому тракту), Учур и Темтен (притоки реки Алдана) и, сверх того, кочевья тунгусов, скитающихся в вершине реки Олекмы, а Запольский даже пробрался через Яблонный хребет на реку Зею и, по Амуру отплыв в Восточный океан, воротился чрез Аян, Нелжан и Устьман в Якутск. Разъезды эти соединены с неимоверными трудностями. По несколько месяцев сряду мы ночевали на снегу под открытым небом при трескучих полярных морозах, отчего некоторые из нас – священников – преждевременно сходили в могилу, другие, страдая несколько лет от цинги, до конца расстроили свое здоровье».
Почти ежегодно о. Никита Запольский совершал далекие и невероятные по тяжести поездки к Ледовитому океану и притокам Амура
Отец Никита Запольский был единственным, кто сумел преодолеть Яблоновый хребет и добраться до Зеи, а затем по Амуру до Восточного океана. Почти ежегодно о. Никита совершал далекие и невероятные по тяжести поездки к Ледовитому океану и притокам Амура. То верхом на лошадях и оленях, то в нартах на собаках, а иногда и пешком по бесплодным пустыням, где на расстоянии нескольких сот или даже тысяч верст нет ни дорог, ни следов человеческого жилья. Чем дальше на север, тем больше мертвела и цепенела природа. Перед миссионером открывались горизонты ледяной пустыни, почти без растительности, с гладкой поверхностью тундр и озер, невыносимой для человеческих глаз ослепительным светом солнца и льда. Он неоднократно сбивался с пути, рискуя погибнуть от голода, замерзнуть или во время метелей быть занесенным снегом. Особенно сильные метели были возле Ледовитого океана.
Такие путешествия отца Никиты продолжались не неделю или месяц, а почти год.
«Страшно и опасно ехать по этому ледяному краю, где солнце около двух месяцев не является на горизонте, а в летнюю пору столько же времени не заходит. В первом случае невозможно при постоянной темноте предпринять дальнего путешествия; во втором невыносимый жар от солнца, накаливающего воздух и землю, целые два месяца доводит путешественника до крайнего изнеможения. К тому же беспредельные пространства тающих болот, над которыми тучами кишат комары, оводы и другие насекомые, а также проливные дожди, переполняющие ручьи и речки опаснее и страшнее для путника, чем жестокие зимние морозы. Впрочем, летом и зимою в здешних местах многие встречают неожиданную смерть». (Путевой дневник Преосвященного Дионисия)
Со временем слово Божие достигло диких земель верховья Амура и Зеи – тех мест, где в широко раскинувшейся непроходимой тайге, по протокам верхнего течения рек, кочевали с места на место со стадами оленей дикие дети природы – орочены. Многие из них давно приняли Святое Крещение в Забайкалье или в Якутской области, но немало осталось и язычников, далеких от веры Христовой. По поручению епархиальной власти в 1853 году была направлена миссия от Николаевской церкви в Северо-Восточную часть Якутской области.
И снова единственным миссионером, который не испугался отдаленности Амура от Якутска, полного отсутствия дорог, суровых морозных зим и невероятно тяжелых для поисков мест кочевания инородцев, проживавших в глухих лесных дебрях по берегам рек, озер и непроходимых болот, был священник Никита Запольский.
6 октября 1854 года он предпринял очередное путешествие на Амур.
Поднявшись по реке Алдан и перейдя через Становой хребет, Запольский спустился в долину реки Зея, прошел до устья Гилюя и свернул в амурскую тайгу в поисках кочующих инородцев. Целыми днями отец Никита с причетником шли пешком, жалея силы уставших оленей. Месяцами изнемогали от голода и холода, не встретив ни одной живой души. Семь месяцев они провели под открытым небом, питаясь чем придется. Иногда встречались орочены, которые не видели священников по 10–15 лет.
В таких условиях отец Никита крестил 120 человек, совершил 80 венчаний, исповедовал 300 человек и причастил 200.
 Святитель Иннокентий (Вениаминов) Несмотря на положительные результаты миссионерской деятельности среди инородцев, отец Никита Запольский пришел к выводу о невозможности в будущем таких путешествий из Якутска. Слишком опасен и тяжел был этот далекий путь. Вернувшись домой в мае 1855 года, он написал Преосвященному Иннокентию Камчатскому:
Святитель Иннокентий (Вениаминов) Несмотря на положительные результаты миссионерской деятельности среди инородцев, отец Никита Запольский пришел к выводу о невозможности в будущем таких путешествий из Якутска. Слишком опасен и тяжел был этот далекий путь. Вернувшись домой в мае 1855 года, он написал Преосвященному Иннокентию Камчатскому:
«Живущих по реке Зее и притокам ее ни к какому приходу приписать неудобно по отдаленности их. Хорошо было бы учредить там особый причт и устроить церковь на Зее. Ибо вблизи сего места кочуют тунгусы уссурийского ведомства по рекам Нуяме и Селимдже, куда ездит удский священник и тунгусы Нерчинского округа, между которыми много находится даже не крещеных, а между тем тамошние священники к ним не ездят».
В течение всей зимы, с ноября по апрель месяц, о. Никита не видел теплого угла
В 1859 году Преосвященный Иннокентий вновь командировал протоиерея Никиту на Зею, с целью поставить миссионерское дело среди инородцев на прочную основу. Отец Никита выехал из Якутска 8 ноября 1859 года и вернулся домой по Амуру и Охотскому морю через Аян лишь 10 сентября 1860 года, проделав путь в 8000 верст. Его вторая поездка понесла не меньше лишений и трудностей, чем первая. В течение всей зимы, с ноября по апрель месяц, он не видел теплого угла. Дымные и холодные тунгусские юрты попадались редко. Путь с Амура на Зею лежал по высоким и крутым горам, покрытым глубоким снегом. Спуски с гор сопровождала опасность сорваться в пропасть. Переход через перевал продолжался 12 дней. Морозы этой зимой выдались жестокие и часто сопровождались сильными бурными ветрами, но чаще пронизывающими до костей легкими ветерками-гнусами. С наступлением весны, возвращаясь домой по амурской тайге, Запольский заболел цингой так сильно, что с трудом передвигался. В Албазине ему оказали медицинскую помощь.
За это время он крестил до 150 младенцев, совершил 80 браков, причастил до 200 человек и исповедовал около 100.
Выпавшие в эту зиму в верховьях Зеи глубокие снега преградили ему путь, отрезав от ороченов, поэтому он не исполнил всего, что хотел.
Возвратившись в Якутск, протоиерей Запольский предоставил Преосвященному Иннокентию полную картину об условиях службы походного духовенства. Учитывая дальность и трудности пути от Якутска до Амура, неимоверные риски и затраты, которые переносят священники-миссионеры, он настаивал на учреждении самостоятельной миссии для кочующих народов.
Свой миссионерский долг отец Никита Запольский исполнял почти двадцать лет. Труды его были не меньше трудов апостольских, а проповедь такой силы, что к Православной Церкви он присоединил несколько сот язычников. Под его руководством было открыто несколько приходов в полярном крае, благодаря чему необходимость в миссионерах отпала.
В Якутске отец Никита пользовался всеобщей любовью и уважением. Двери дома семьи Запольских были открыты для всех: богатых и бедных, знатных и простолюдинов – все шли к нему за защитой и советом, со всеми он был ласков и никого не оставлял без поддержки. Неважно, кто приходил к нему: священник или дьячок его благочиния – всех он одинаково принимал и угощал. Когда случалась беда, утешал как мог, а если грехи – вместо выговора или доноса начальству убедительно просил исправиться. Вступив в должность благочинного, отец Никита Запольский примирял между собой сельское духовенство, и никто не мог припомнить, чтобы он оскорбил кого-нибудь словом.
Последней миссией отца Никиты Запольского стала поездка на Амур в 1862 году по поручению Высокопреосвященного Иннокентия. Необходимо было выяснить, каких из тунгусов, обитающих между Амуром и Якутской областью, причислить к Амурской миссии, а каких оставить в ведении якутских миссионеров. Эта поездка продолжалась больше полугода. Из Якутска Запольский направился на оленях до Албазина по таким местам, где раньше ступала лишь нога тунгуса, а именно: по реке Андау через пороги до Ягодного хребта. Здесь ожидало его много невзгод и лишений. Надорванное предыдущими поездками здоровье отца Никиты не выдержало, и он вернулся в Якутск с тяжелой болезнью печени, отчего вскоре умер.
Протоиерей Никита Запольский предвидел свою близкую кончину. Несмотря на просьбу жены и детей, отказался на ярмарке купить себе новые сапоги, а когда матушка купила ему ткань на подрясник, запретил ей шить, потому что «материя им самим пригодится». Во время исповеди перед духовным отцом отец Никита принес пред Господом покаяние во грехах и причастился. Он просил духовника не говорить преждевременно семье о его скорой кончине.
В свой последний день он встал рано утром и, пока все спали, обошел комнаты, помолившись перед каждой иконой. В 2 часа ночи 23 августа 1863 года он почил на 46-м году жизни и был погребен в Якутском Спасском монастыре.
 Епископ Павел (Попов) Литургию совершил Преосвященный Павел, епископ Якутский, с шестью священнослужителями, а отпевание – со всем Якутским городским и отчасти сельским духовенством.
Епископ Павел (Попов) Литургию совершил Преосвященный Павел, епископ Якутский, с шестью священнослужителями, а отпевание – со всем Якутским городским и отчасти сельским духовенством.
После смерти отец Никита Запольский оставил большие долги. Частые миссии и многодетная семья требовали больших расходов. Но как только слух о его кончине распространился по городу, почти все кредиторы явились к вдове и на глазах семьи уничтожили свои долговые документы.
При погребении отца Никиты Запольского присутствовал почти весь Якутск. Со слезами народ прощался со своим благодетелем, провожая его в последний путь добрыми словами.
В 1868 году был отправлен к тунгусам священник Доримедонт Протопопов, назначенный на эту должность благодаря знанию якутского языка и широкой известности среди туземцев. Так как часовен и церквей в местах их обитания не было, тунгусы сами посылали за отцом Доримедонтом гонцов на оленях, чтобы он приехал к одной из рек, где они собирались для совершения богослужения.
При погребении отца Никиты Запольского присутствовал почти весь Якутск
В Нерчинском крае среди тунгусов и бурят жил купец Кирилл Суханов. Он вел активную торговлю с иноземцами и при этом проповедовал им Слово Божие. По настоянию Преосвященного Иннокентия он принял сан и полностью посвятил свою жизнь миссионерскому делу. Крещеные им тунгусы принимали фамилию Суханов. Протоиерей Кирилл приучал их к оседлой жизни в небольших стойбищах, и со временем они стали русскими по образу жизни и по русской речи.
Самые трудные поездки 1878–1879 гг. выпали на долю отца Григория Преловского, более семи месяцев путешествовавшего по необитаемым пустыням на расстоянии 3047 верст. С самого начала его сопровождали непрерывные скорби, лишения и опасности. Из Алдана выехали верхом на оленях, что даже для опытных оленеводов было непросто, а для неопытного и высокорослого, каким был отец Григорий, это стало мучением. Но вскоре глубокие снега лишили его и этой возможности – олени утопали в снегу, и ничего не оставалось, как идти на лыжах.
Жестокие холода и пронзительные ветра отнимали у путников последние силы. Перебираясь с гольца на голец, с речки на речку в течение 19-ти дней, они с трудом добрались до Яблоневого хребта, разделявшего Амурские притоки от Ленских, и на всем пути им не встретилось ни жилища, ни следа человеческого. Отсутствие горячей пищи кроме чая с сухарями обессилили о. Григория, а от яркого света и преломления солнечных лучей на гольцах и долинах у него воспалились глаза. От пронзительного холода ломило зубы и голову, сильно стучало в ушах. Находясь в болезненном положении, священник нашел теплый прием только на Кульдзинских приисках, и так как его приезд совпал с первой неделей Великого поста, он исповедовал и приобщил Святых Таин служащих. Отца Григория не только накормили и обогрели, но дали на обратный путь съестные припасы, в которых он очень нуждался.
Отсутствие горячей пищи кроме чая с сухарями обессилили о. Григория, а от преломления солнечных лучей у него воспалились глаза
По дороге домой он не встретил почти ни одного тунгуса, а из-за разлива горных речек путникам приходилось буквально по колено в воде в зимних одеждах переходить вброд водоемы.
Однажды во время опасной переправы верхом на оленях через быстротечную речку Джомпула с псаломщиком произошел несчастный случай. Олень не устоял, всплыл и сбросил седока. Дьячок стал тонуть, но, к счастью, попавшееся деревце дало ему возможность некоторое время продержаться на воде, пока не подоспели ямщики и, рискуя жизнью, не спасли его от неминуемой смерти. С головы до ног промокший и продрогший до костей, он не мог ни идти пешком, ни сесть на оленя.
Несмотря на все трудности и невзгоды, миссионеры через семь месяцев возвратились в Якутск. В сравнении с понесенными трудами этот походный священник сделал немного: исповедовал и причастил 245 человек, окрестил 46 младенцев, совершил 12 браков и 13 погребений. И все из-за того, что тунгусы откочевывали к пределам Приморской области к Зеленой горе, куда отец Григорий не смог доехать, потому что получил приказ от начальства вернуться.
В 1878 году походный священник Василий Никитин отправился вниз по реке Лене на каюке и встретил преграды в виде сильных противных ветров, а вскоре река покрылась льдом, и каюк оказался на необитаемом острове реки. Но тунгусы оказали помощь священнику и его спутникам – помогли выйти из места заключения. Зимой священник странствовал по берегам Ледовитого океана от Быкова до реки Оленска, посетил якутов, тунгусов, юкагир, совершил необходимые требы и возвратился в Якутск.
Наглядным примером миссионерской деятельности служит путешествие иеромонаха Венедикта к чукчам, предпринятое им в конце 1896 года, из которого он вернулся лишь в 1989 году. Во время поездки отец Венедикт вынужденно оказался на острове святого Лаврентия (южнее Берингова пролива) и за неимением переводчика и проводника, а также средств для возвращения домой, остался жить у агентов американских торговых компаний.
При первой возможности он выехал к чукотским стойбищам и, прожив в них месяц, вынужден был вернуться к американцам. Затем, с попутными торговцами на собаках, выбрался к устью реки Анадырь и на чукотском мысе «Чаплин» прожил месяц в ожидании чукчей, разъехавшихся на промыслы. Добравшись от мыса «Чаплин» до устья Анадыря, иеромонах Венедикт остался у казаков в ожидании благоприятного случая, пока из селения Маркова не приехал за хлебом на нартах торговец. В Маркове отец Венедикт жил до зимы, так как летом путь еще невыносимее. Тучи комаров и разных насекомых, палящее знойное солнце или затяжные дожди вынуждали искать укрытие в разбросанных на больших расстояниях друг от друга неприглядных якутских юртах. Единственное питание – сухари и чай, вода для которого берется из водоемов. В самих юртах множество скачущих насекомых, от которых тело горит как в огне.
 Икона святителя Иоасафа (Болотова) Легко об этом читать, но пережить такое очень непросто. Еще на рубеже XIX–XX веков миссия походного духовенства терпела серьезные потери и скорби. Без гордости и тщеславия священники совершали подвиги, посвящая свои жизни обращению тысяч инородцев в веру Христову. О том, насколько необходимы были часовни и церкви в местах проживания диких народов и насколько безопаснее и плодотворнее было служение местного духовенства, не нуждающегося в поисках по ледяным пустыням кочевников, говорит история духовной миссии острова Кадьяк.
Икона святителя Иоасафа (Болотова) Легко об этом читать, но пережить такое очень непросто. Еще на рубеже XIX–XX веков миссия походного духовенства терпела серьезные потери и скорби. Без гордости и тщеславия священники совершали подвиги, посвящая свои жизни обращению тысяч инородцев в веру Христову. О том, насколько необходимы были часовни и церкви в местах проживания диких народов и насколько безопаснее и плодотворнее было служение местного духовенства, не нуждающегося в поисках по ледяным пустыням кочевников, говорит история духовной миссии острова Кадьяк.
В 1793 году под начальством архимандрита Иоасафа (Болотова) была учреждена Кадьякская духовная миссия на Аляске, инициатором которой стал рыльский гражданин и промышленник Григорий Шелехов. Он обязался содержать как церковь, так и миссионеров за счет своей промышленной компании. Первыми миссионерами в Северной Америке стали восемь иноков Валаамского монастыря: начальник миссии архимандрит Иоасаф (Болотов), будущий епископ Кадьяка, иеромонахи Ювеналий, Макарий и Афанасий, иеродиаконы Стефан и Нектарий и монахи Герман и Иоасаф. Как сложились судьбы этих героев?
Иеромонах Ювеналий, ободренный успехом проповеди и окрестив в стране Кенайцев более 700 язычников, был зверски убит дикарями
Иеромонах Ювеналий, ободренный успехом проповеди и окрестив в стране Кенайцев более 700 язычников, был зверски убит дикарями. Так они вспоминали об этом святом проповеднике:
«Он обращал нас к своему Богу, а мы не хотели оставлять многих жен и привязали его к дереву. Но он, уже совсем мертвый, три раза вставал и начинал убеждать нас, пока мы не отдали его соседям, чтобы те съели».
В 1797 году, во время сильного океанского шторма, затонул корабль «Феликс», и все пассажиры погибли. На борту корабля находился возведенный в Иркутске в сан епископа острова Кадьяка начальник Американской миссии Иоасаф (Болотов), иеромонах Макарий, просветитель алеутов, и иеродиакон Стефан.
В 1806 году в Иркутском Киренском монастыре скончался иеродиакон Нектарий. Монах Иоасаф умер в 1823 году.
Из участников Кадьякской духовной миссии в живых остались иеромонах Афанасий и монах Герман. Он не покидал место своего служения, занимался усердной молитвой, вел хозяйство и обучал грамоте и трудолюбию сирот алеутов.
В 1801 году Герман возглавил миссию и в поиске уединенной молитвы переселился на пустынный остров Еловый, назвав свою обитель Новым Валаамом, где в 1837 году обрел покой. Преподобный Герман Аляскинский был прославлен 9 августа 1970 года Американской Православной Церковью.
Такова была походная православная миссия в прошлом.