 Иженяков Тимофей Илларионович Эта история необычна с самого начала. Как-то, разбирая домашние архивы (а я иногда коробки проветриваю и меняю местами), «глаз зацепился» за биографическую справку двоюродного брата деда по отцовской линии, который в печально известном 1937 году, будучи назначенным на должность народного судьи, ни одного человека не приговорил к высшей мере наказания…
Иженяков Тимофей Илларионович Эта история необычна с самого начала. Как-то, разбирая домашние архивы (а я иногда коробки проветриваю и меняю местами), «глаз зацепился» за биографическую справку двоюродного брата деда по отцовской линии, который в печально известном 1937 году, будучи назначенным на должность народного судьи, ни одного человека не приговорил к высшей мере наказания…
Делаю новый запрос в архив: да, так и есть. Делопроизводитель суда указывает:
«Иженяков Тимофей Илларионович отличился человеколюбием и высокими моральными принципами: никогда не выносил суровых приговоров в отношении женщин, учитывал положение сирот и ссыльных, стараясь облегчить их жизнь, и никого не приговорил к высшей мере наказания (ВМН)».
Биография больше подходит для абитуриента духовной академии, скажем прямо, а тут суд…
В печально известном 1937 году, будучи назначен на должность народного судьи, он ни одного человека не приговорил к высшей мере наказания…
Родился Тимофей в 1905 году в межнациональной семье: отец – манси, мама – русская. Учился, видимо, хорошо. В возрасте 22 лет, собрав фанерный чемодан с нехитрыми пожитками, уехал учиться в Ленинград, неожиданно выбрав для себя правовое направление. Глагол «уехал» вмещает в себя невероятно много: от родных Нахрачей, которые теперь называются село Кондинское (Ханты-Мансийский округ – Югра) до города на Неве добирался речным, гужевым, автомобильным и железнодорожным транспортом.
Закончив учебу в 1933 году, вернулся домой с дипломом и несколькими ящиками книг. Образованный человек в сибирской глубинке на вес золота. Кстати, у председателя суда не было высшего образования. Оно в те годы было редкостью. Устроился Тимофей работать при исполкоме инструктором, а после возглавил единственный в районе крупный колхоз «КИМ» – колхоз имени Микояна – и в 1937 году, имея отличный послужной список, был назначен на должность судьи. К этому времени он был уже благополучно женат, подрастала дочка.
Надо сказать пару слов об отце. Илларион Иванович, будучи поселковым старостой, помогал многим пришлым людям обжиться в тайге, выправлял документы, оказывал на первых порах помощь по хозяйству, в конце концов, просто не выдавал властям людей духовного и дворянского сословия, вообще никого не выдавал. Возможно, по этой причине все новорожденные младенцы в Нахрачах и окрестностях были вовремя крещены, а покойники отпеты, за массивными дверями и ставнями из кедрача служились службы, вычитывались правила, совершались требы. Кто из властей лишний раз сунется в такую глушь?
Вполне естественно, что люди, преступившие тогдашний закон, просто мечтали, чтобы их дела разбирал именно судья Тимофей Илларионович. Одни его благородные черты внушали надежду на благополучный исход. Он же предельно внимательно относился к каждому участнику процесса. Говорил медленно и основательно, чтобы секретарю судебного заседания не пришлось переписывать. Обстоятельно выслушивал сторону защиты и обвинения, мягко напоминая о необходимости ссылаться, прежде всего, на правовые нормы. И в отличие от других судей никогда не торопился.
Великая Отечественная внесла свои коррективы в сибирский уклад: на войну за короткое время забрали всех совершеннолетних мужчин, однако у народного судьи имелась бронь. Он нужен в тылу. Если бы не одно «но». Каждый день он ходил на работу мимо опустевших домов, осиротевших лиц, которые смотрели на него, как ему казалось, с укоризной: «Ты живой и здесь, а наш отец/сын/брат неведомо где, да и неизвестно, вернется ли?..»
Тимофей сдал бронь и ушел на фронт добровольцем
Сдал Тимофей бронь и ушел добровольцем.
…Пароход с почтой встречали всем поселком. Солдат писал обычно по два письма: одно родителям, второе жене – и всегда передавал привет соседям с непременными пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и обязательно – мирного неба.
В 1944-м перестали приходить письма. А потом… В октябре скупое и немногословное извещение, в котором печатным шрифтом значилось:
«Уважаемая Александра Васильевна! Ваш муж, гвардии сержант Иженяков Т.И. 5 августа 1944 года в бою за социалистическую Родину, проявив геройство и мужество, погиб смертью героя, похоронен северо-восточнее хутора Карпусин на территории Польши».
Вместе с похоронкой были присланы и награды – орден Отечественной войны 1-й степени и две медали «За боевые заслуги». Вскоре узнали: хутор Карпусин находится в двенадцати километрах от Соколов-Подлясского уезда Седлецкой губернии, а когда спустя годы собрались к нему, последовало перезахоронение – в городе Варшаве. Известен и номер могилы, куда приезжала дочка с внучкой. Маленькая ладошка скользила по граниту, здоровалась с дедом. Девочка много раз видела его во сне и никогда в жизни. А так многое хотелось сказать…
…Три года назад сын скинул мне на телефон видео со словами: «Смотри, мам, поляки прадеду памятник сносят». Возникло тяжелое чувство. Они ведь про нашего Тимофея ничего не знают…


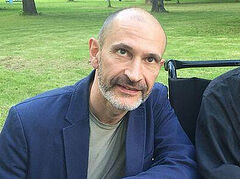
Или это выдумка и вброс?