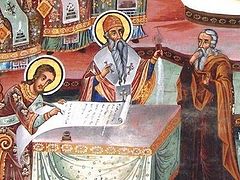Портал Православие.Ru публикует цикл статей иеромонаха Луки Григориатского, приуроченный к 1700-летию созыва Первого Вселенского Собора. Отец Лука – один из самых известных афонских богословов, насельник монастыря Григориат. Он известен как автор множества публикаций в периодической печати и нескольких книг.
Каково значение Первого Вселенского Собора для истории Православной Церкви? Какие темы были подняты на нем? Почему принятые на Соборе постановления актуальны и в наши дни? Об этом – цикл статей иеромонаха Луки.
- Часть 1 – Первый Вселенский Собор: его значение и предпосылки
- Часть 2 – Первый Вселенский Собор: ход собора и обсуждаемые темы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая этот текст, посвящённый I Вселенскому Собору, необходимо обратиться к сегодняшнему дню. Арианство, хотя оно и потерпело поражение в Никее Вифинской в 325 году, не исчезло ни в конце того же века, ни в VI веке, разве что формально. Оно сохранилось как основа для последующих ересей с их богословием «по человеку». Оно живёт и по сей день в антитринитарных протестантских общинах. Оно проникло в богословские тенденции новоарианского подхода к тайне Святой Троицы. Но и в целом оно господствует во всём мире как этос и образ жизни.
Арианство сохранилось как основа для последующих ересей с их богословием «по человеку»
Есть ли способ победить арианство раз и навсегда?
Только освящённая жизнь чад Православной Церкви свободна от элементов арианства. Когда преподобный Иустин (Попович) писал о новоарианстве (человекоцентризме) европейской культуры, он выражал именно эту реальность, что богочеловекоцентричное богословие, воспитание и образ жизни – это преодоление присущей нашей падшей природе склонности к арианству. Человеку трудно преодолеть эту склонность, хотя бы он ежегодно и анафематствовал Ария в Неделю Православия. Для окончательного преодоления арианства, будь то во время его исторического появления и осуждения или сейчас, когда оно разъедает повседневную жизнь и мысль человека, необходима святость, то есть исповедание православной веры и чистота жизни.
Но поскольку история являет нам не всегда Константинов Великих, а часто – Констанциев, Валентов и других подобных им филоарианских деятелей всех времён, то в качестве приложения необходимо упомянуть о двух весьма поучительных событиях из того времени, когда Церковь мощно противостояла религиозно и политически навязываемому арианству. Эти события свидетельствуют о несгибаемом духе исповедников веры, выраженном с благодатным величием и благородством. Первое касается святителя Афанасия Великого, а второе – Ливерия, епископа Римского.
Святитель Афанасий Великий не принимает Ария в общение
Афанасий Великий после кончины епископа Александра уже стал епископом Александрийским к тому времени, когда Арий в письменном исповедании (лицемерном) императору Константину попросил своего церковного восстановления. Император поверил ему и отправил его в Александрию. Но Афанасий Великий не принял его в общение. Строгость святителя, подобная той, что была впоследствии у Александра Константинопольского, имеет особое значение в отношении еретиков, которые ведут себя перед Церковью лицемерно, хотя внешне каются. О позиции святого Афанасия пишет историк Сократ:
«Когда Арий прибыл в Александрию, Афанасий не принимал его и отвращался от него, как от скверны. Арий вновь начал возмущать Александрию, распространяя свою ересь. Тогда-то и сторонники Евсевия (Никомидийского) как сами писали, так и императора побуждали написать, чтобы были приняты приверженцы Ария. Но Афанасий совершенно запретил принимать их в общение. В письме императору он утверждал, что однажды отвергших православную веру и анафематствованных невозможно принимать в общение снова. Император сильно досадовал на это и писал Афанасию с угрозой. Вот отрывок его послания: “Имея доказательством моей воли это (письмо), ты должен позволять беспрепятственно вступать в Церковь всем, кто желает вступить в неё. Если я узнаю, что ты воспрепятствовал войти в Церковь кому-нибудь из тех, которые изменили своё мнение, или что ты запретил их вступление, я тотчас пошлю низложить тебя, по моему указу, и отправить в ссылку”. Император писал это, желая пользы, а не расторжения Церкви, потому что старался привести всех к единомыслию. Напротив, сторонники Евсевия, ненавидя Афанасия, приняли это обстоятельство как благоприятный случай для того, чтобы направить неудовольствие императора к своей цели, и потому произвели всевозможные возмущения, чтобы изгнать Афанасия из епископии. Они считали, что удаление Афанасия – это единственный способ, которым арианская ересь может возобладать»[1].
Это послужило причиной непрекращающихся интриг ариан против святителя Афанасия Великого, тридцатилетних гонений на него и ссылок, пока наконец этот непреклонный сокрушитель арианства и непобедимый защитник Православия не был восстановлен на своей кафедре при императоре Иовиане и не почил в мире в 373 году.
Ливерий Римский противостоит императору Констанцию
Папа Римский Ливерий был современником святителя Афанасия Великого и поборником догматических постановлений Никейского Собора. С непоколебимой смелостью он отстаивал каноничность святого Афанасия, хотя того гнали и отправляли в ссылки. Он никогда не принимал несправедливых «соборных» осуждений и императорских нападок на Александрийского епископа.
Папа Римский Ливерий был современником святителя Афанасия Великого и поборником догматических постановлений Никейского Собора
Блаженный Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» пишет:
«Я хочу внести в своё сочинение рассказ о дерзновенной защите истины и о достойных восхищения словах всехвального Ливерия, сказанных им Констанцию. Их высоко ценят здешние боголюбцы, ибо они способны поощрять и пробуждать ревность в рачителях божественного. Ливерий управлял Римской Церковью после Юлия, преемника Сильвестрова.
Разговор между императором Констанцием и Римским епископом Ливерием
 Папа Римский Ливерий Констанций: Поскольку ты христианин и епископ нашего города (Рима), мы заблагорассудили призвать тебя и убедить отречься от общения с мерзким безумием нечестивого Афанасия. Вся вселенная признала это за благо и соборным определением присудила считать Афанасия чуждым церковного общения.
Папа Римский Ливерий Констанций: Поскольку ты христианин и епископ нашего города (Рима), мы заблагорассудили призвать тебя и убедить отречься от общения с мерзким безумием нечестивого Афанасия. Вся вселенная признала это за благо и соборным определением присудила считать Афанасия чуждым церковного общения.
Ливерий: Царь! Церковные решения должны выноситься со многой справедливостью. Поэтому, если угодно твоему благочестию, повели учредить суд, и если Афанасий окажется достойным осуждения, то пусть будет вынесен против него приговор по принятому церковному порядку, ибо мы не можем осудить человека, которого не судили.
Констанций: Вся вселенная осудила его за нечестие; он столько лет издевается над нами.
Ливерий: Лица, подписавшие его осуждение, не были очевидцами событий, но сделали это из-за славы, страха и бесчестия от тебя [боясь, что ты лишишь их сана или занимаемого места].
Констанций: Что значит слава, страх и бесчестие?
Ливерий: Те, которые не любят славы Божией, поскольку предпочли твои дары, без суда осудили человека, которого не видели в лицо: это чуждо христианам.
Констанций: Но ведь он был лично судим на Тирском соборе, где соборно осудили его все епископы вселенной.
Ливерий: Никогда этот человек не был осуждён лично. А те, которые соборно тогда осудили его, сделали это после того, как Афанасий уже удалился из судилища.
Евсевий евнух: На Никейском Соборе[2] оказалось, что он чужд кафолической веры.
Ливерий: Из тех, которые плавали в Мареотиду, быв посланы туда для составления обвинительного акта против обвиняемого (Афанасия), только пятеро вынесли против него обвинительный приговор. Из этих посланных двое уже умерли, Феогоний и Феодор, а прочие трое, Марий, Валент и Урсакий, живы доныне. На всех сих послов, за это самое дело, в Сардике произнесён приговор; но осужденные подали потом собору[3] прошение, прося прощения в том, что показания против Афанасия взяты были ими в Мареотиде по злонамеренности только от одной стороны. Эти их заявления находятся сейчас у нас на руках. С кем же надобно согласиться и войти в общение, царь? С теми ли, кто прежде осудили Афанасия, а потом просили в этом прощения (т. е. Марий, Валент и Урсакий), или с теми, которые теперь осудили их самих?
Епиктет епископ: Царь! Ливерий спорит теперь не для защиты веры или церковных решений, а для того, чтобы похвастаться пред римскими сенаторами, что он царя переспорил.
Констанций – Ливерию: Да что ты за важное лицо в государстве, что один поддерживаешь сторону нечестивого человека и разрушаешь спокойствие вселенной, даже целого мира?
Ливерий: Вера ничего не теряет из-за того, что я один. И в древности только три человека воспротивились [царскому] повелению[4].
Евсевий евнух: Ты царя нашего сделал Навуходоносором?
Ливерий: Нет. Но ты так вопреки здравому смыслу осуждаешь человека, которого мы не судили? А я считаю нужным прежде всего собрать подпись [епископов] всей вселенной, которой бы утверждалась изложенная в Никее вера. И тогда, после того как возвратятся из ссылок братья наши (православные епископы) и восстановятся в своих местах, если те, которые сейчас производят в Церквах возмущения, окажутся согласными с апостольскою верой, тогда мы все соберёмся в Александрию, где будет и обвиняемый, и обвинители, и их защитники, и, рассмотрев их дело, вынесем решение.
Епиктет епископ: Не достанет казённых средств для такого множества епископских поездок.
Ливерий: Для решения церковных дел нет нужды в казённых средствах. Церкви имеют возможность переправить своего епископа через море (до Александрии).
Констанций: Изданные царские указы не могут отменяться. Приговор большинства епископов должен иметь силу. Ты один только держишься за дружбу с тем нечестивцем.
Ливерий: Государь! Мы никогда не слышали, чтобы судья обвинял подсудимого в нечестии, не видя его перед собой, и высказывал бы личную свою вражду к нему.
Констанций: Он обидел всех вообще, но никого не столько, как меня. Не довольствуясь гибелью старшего моего брата, он не переставал побуждать к вражде против меня покойного Константа и успел бы в этом, если бы мы с большой кротостью не терпели намерения как побуждавшего, так и побуждаемого. Я полагаю, что ни в чём не преуспел, даже победив Магненция и Сильвана, пока этот мерзкий человек (Афанасий) не оставляет в наших руках дел церковных.
Руки мужей церковных должны всегда быть готовыми на освящение
Ливерий: Не используй епископов, государь, для удовлетворения личной вражды. Руки мужей церковных должны всегда быть готовыми на освящение. Поэтому, если тебе угодно, повели вернуть епископов на их места, и если окажется, что они единомысленны с тем, кто ныне защищает православную веру, изложенную в Никее, тогда мы соберёмся вместе и рассудим об умиротворении всего мира. Пусть не прилипает обвинение к человеку невиновному.
Констанций: Нужно лишь одно: я хочу, чтобы ты согласился войти в общение с Церквами, и послать тебя снова в Рим. Поэтому прими мир с нами, поставь свою подпись и возвращайся в Рим.
Ливерий: Я уже простился с римскими братьями; церковные законы дороже пребывания в Риме.
Констанций: Тебе даётся три дня сроку на размышление. Если хочешь, подпишись и возвращайся в Рим, а если нет, подумай, в какое место ты хотел бы отправиться в ссылку.
Ливерий: Срок трёхдневный не переменит моего решения, поэтому посылай меня, куда хочешь.
Спустя два дня после того, как Ливерий был осуждён и не изменил своего решения, царь велел сослать его в Верию Фракийскую.
Как только Ливерий отправился, царь послал ему пятьдесят серебряных монет на издержки. Ливерий сказал принёсшему их: “Ступай и возврати это царю; ему они нужны, чтобы платить своим солдатам”. Столько же присылала ему и царица; но Ливерий сказал: “Отдай их царю, они нужны ему на жалованье солдатам; а если царю не нужно, отдай их [епископам] Авксентию и Епиктету, которые нуждаются в них”. Так как от них Ливерий не принял денег, то евнух Евсевий принёс ему другие. Но Ливерий сказал: “Ты опустошил Церкви всей вселенной и теперь мне, как осужденному, подаёшь милостыню?! Пойди, стань сначала христианином”. И через три дня, ничего не приняв, он отправился в ссылку.
Итак, победоносный поборник истины, согласно с повелением, прибыл во Фракию.
По прошествии двух лет Констанций приехал в Рим – и супруги людей знатных и чиновников стали упрашивать своих мужей, чтобы они умолили царя о возвращении пастыря его пастве. Если вы не сделаете этого, говорили они, то мы оставим вас и побежим к тому великому пастырю. Но мужья отвечали, что они боятся царского гнева: “Нам, как мужчинам, Констанций, может быть, никак не простит этого, а когда возьметесь просить вы, то вас он, наверное, пощадит, и будет одно из двух: либо примет вашу просьбу, либо, в случае отказа, отошлёт вас без взыскания”.
Приняв этот совет, те достохвальные жены пришли к царю в одежде, по обычаю, пышной, чтобы приняв их по одежде, как знатных, он обошёлся с ними почтительно и кротко. Так приступив, они стали умолять царя, чтобы он сжалился над столь великим городом, который лишился пастыря и стал уязвим перед злоумышлениями волков (еретиков). Но тот отвечал им, что город не имеет нужды в другом пастыре, ибо в нём есть пастырь, который может о нем заботиться. Ведь после великого Ливерия рукоположен был один из его диаконов, по имени Феликс, который, хотя изложенную в Никее веру соблюдал в неприкосновенности, однако же имел свободное церковное общение с теми, кто её искажал.
Церковь умиротворилась от арианства только в 380 году благодаря указу императора Феодосия Великого и решениям II Вселенского Собора
Впрочем, никто из жителей Рима не входил в храмы, когда в них был Феликс, о чём женщины сказали царю. И тот, склонившись на их просьбу, повелел возвратить того превосходного во всех отношениях мужа (Ливерия), чтобы они управляли церковью совместно (с Феликсом). Когда указ об этом читан был на ипподроме, народ оглашал воздух восклицаниями, [притворно] называя царский приговор справедливым. Жители разделились на две партии, и каждая стала называться по цвету своих одежд. Они говорили, что один епископ должен управлять одной партией, а другой – другой. Высмеивая таким образом царский указ, они все вместе восклицали: “Один Бог, один Христос, один епископ!”. Они сочли, что такими возгласами им следовало изъявить своё желание.
После этих восклицаний христолюбивого народа, исполненных благочестия и справедливости, божественный Ливерий возвратился, а Феликс выехал и стал жить в другом городе»[5].
Церковь умиротворилась от арианства только в 380 году благодаря указу императора Феодосия Великого и решениям II Вселенского Собора в Константинополе в 381 году.