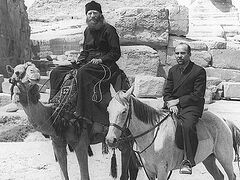Е.Н.Вендланд, врач. Довоенная фотография Из духовной семьи архимандрита Гурия (Егорова) на фронт были мобилизованы двое – Саша Хархаров и Елизавета Вендланд. Геолог Константин Вендланд (будущий митрополит Иоанн) искал в годы войны редкоземельные металлы для оборонной промышленности в горах Тянь-Шаня. Остальным, вернувшимся из лагерей, было за пятьдесят.
Е.Н.Вендланд, врач. Довоенная фотография Из духовной семьи архимандрита Гурия (Егорова) на фронт были мобилизованы двое – Саша Хархаров и Елизавета Вендланд. Геолог Константин Вендланд (будущий митрополит Иоанн) искал в годы войны редкоземельные металлы для оборонной промышленности в горах Тянь-Шаня. Остальным, вернувшимся из лагерей, было за пятьдесят.
Старшей по званию среди них была Елизавета Николаевна. Она, капитан медицинской службы, награждена медалью «За победу над Германией». Ее брат, старший лейтенант технических войск Константин Вендланд, награжден медалью «За трудовую доблесть во время Великой Отечественной войны». А Александр Хархаров, рядовой связи, будущий архиепископ Ярославский и Ростовский Михей, имел медаль «За оборону Ленинграда» и другие награды.
Константин Вендланд во время войны уже был тайным иеромонахом. Саша Хархаров монахом мечтал стать. Елизавета Николаевна приняла монашеский постриг в 1958-м году с именем Евфросиния. Но до монашества и даже до иночества вела монашеский образ жизни.
Что формировало душу?
Они не Вендланд, а фон Вендланд. Это я обнаружила совсем недавно, изучая в Российском Государственном архиве Военно-Морского Флота в Петербурге личное дело их отца Николая Антоновича. Частица «фон» означает принадлежность носителя к аристократическому немецкому роду. Но в семье Вендланд, несмотря на многоговорящую приставку, настаивали на славянском происхождении своей фамилии: «Венеды (венеты, венды) – древнейшее наименование славянских племен».
Почему это важно отметить? Потому что эта прекрасная семья осознавала себя русскими. А как сказал мне один очень мудрый и высокопоставленный в церковной иерархии человек, надо всегда помнить, что настоящий русский – это православный и патриот. И Вендланды полностью соответствуют этой характеристике.
Надо всегда помнить, что настоящий русский – это православный и патриот. И Вендланды полностью соответствуют этой характеристике
Немало представителей рода были связаны с военной профессией. Самый знаменитый – Карл Андреевич Шильдер. Выдающийся военный инженер, участник сражения при Аустерлице, командир лейб-гвардии саперного батальона в Турецкую кампанию 1828–1829 годов, вдохновитель и организатор победы при взятии турецкой крепости Силистрия, генерал-адъютант, начальник инженерной службы действующей армии, отважный и находчивый военный руководитель, патриот. Это все о нем.
«Русским людям надо обязательно помнить гений инженер-генерала Карла Андреевича Шильдера, продемонстрировавшего в районе Сестрорецка Императору Николаю Первому не только свою подводную лодку, но и стрельбу ракетами из-под воды», – пишут о нем наши современники.
Сегодня перечень изобретений генерала Шильдера можно прочесть в солидных энциклопедиях. Кроме того, он рисовал и играл на нескольких музыкальных инструментах. Но самое главное – Карл Андреевич был истинным православным христианином и сыном своего Отечества.
 Марка в память создания К.Шильдером первой цельнометалличекой подводной лодки
Марка в память создания К.Шильдером первой цельнометалличекой подводной лодки
Предлогом к Крымской войне, на которой он погиб, явился спор между православным и католическим духовенством за право обладания святыми местами в Палестине. Турецкий султан передал ключи от Вифлеемского храма католикам. Русский Император Николай I потребовал от Турции признания его покровителем всех православных подданных Османской империи.
На эту войну генерал Шильдер смотрел духовными очами и чувствовал христианским сердцем:
«…Совершилось настоящее чудо: действуя четырьмя пушками против сотни орудий из крепости Ращука, целой флотилии и одного большого парохода, мне удалось все это потопить или разбить вдребезги, не потеряв ни одного человека, и с тремя ранеными только; такой случай еще не встречался в военных летописях. Я сказал храбрым артиллеристам: ‟Перекреститесь, а завтра отслужим молебен”».
Столько интересных деталей в его биографии! Был лютеранином. Православие принял через Помазание за полгода до смерти. Это было в Варшаве, в походной церкви Св. великомученика Георгия. Присутствовали князь Варшавский и его супруга Елизавета. Наречен именем Александр.
Столько раз по разным поводам цитировала я эту фразу из книг митрополита Иоанна, и только недавно вдруг решила узнать, а кто же это был – князь Варшавский, с которым у Карла Шильдера такие доверительные, духовно близкие отношения? Оказалось, что это светлейший князь Варшавский генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич-Эриванский. Председатель Совета управления Царства Польского. Единственный в истории полный кавалер одновременно двух орденов – Св. Георгия и Св. Владимира.
Почему владыка не назвал его, ограничившись именем супруги, да и то без фамилии? Да потому, что в нашей стране в не столь далекие времена эта фамилия была как красная тряпка для быка. «Россия – тюрьма народов», «Паскевич – палач польского восстания и венгерского мятежа», – такие клише навешивали на верных сынов Отечества.
Карл Андреевич в этом смысле тоже не исключение. Его фамилия, вписанная в великие страницы истории русской инженерной мысли, не присутствует в школьных учебниках. Ничего удивительного – при такой яростной большевистской русофобии Шильдера и ему подобных замалчивали весь ⅩⅩ век, иначе рухнул бы старательно созданный миф о Николае «Палкине», душителе и вешателе.
 Перенос праха бывшего командующего лейб-гвардии Сапёрного батальона К.А. Шильдера. Санкт-Петербург. 1911 г.
Перенос праха бывшего командующего лейб-гвардии Сапёрного батальона К.А. Шильдера. Санкт-Петербург. 1911 г.
Его называли «великий подрывник», крепости он брал с лопатой в руках. Выдающийся русский военный инженер, он разработал новые методы обороны и осады крепостей. Его учеником был знаменитый Тотлебен. Подчиненные так любили и уважали его, что спустя 60 лет после гибели по инициативе офицеров лейб-гвардии Сапёрного батальона прах Шильдера был перенесён из румынского города Калараш в Санкт-Петербург и помещён в церковь лейб-гвардии Сапёрного батальона во имя Святых Косьмы и Дамиана. Такой корень у семьи Вендландов, трое детей которой стали монахами.
 В центре Елизавета Карловна Шильдер. Начало 20-го века
В центре Елизавета Карловна Шильдер. Начало 20-го века
Если генеральская ветвь сформировала в ней глубокое уважение к ратному труду, то общение с бабушкой воспитало ее душу
Дочь Карла Андреевича, Елизавета Карловна Шильдер, – бабушка Кости и Эли (домашнее имя Е.Н.). Первые 10 лет своей жизни Эли часто проводила у нее в поместье. И если генеральская ветвь сформировала в ней глубокое уважение к ратному труду, то частое общение с бабушкой воспитало ее душу: « Бабушка была существом, исполненным любви, притом была очень религиозная», – писал митрополит Иоанн. А Эли сделала такую запись: «Я каждый день молилась Богу, и постоянно у меня было умиление перед Ним».
 Генерал Адольф фон Вендланд Капоры, бархатные платья, кружевные воротнички, игра на фортепиано, изучение языков (три), приставка «фон»… Папа – действительный тайный советник, служит в Адмиралтействе. Мама – дочь сенатора. Еще один дедушка, тоже генерал. Удивительно, что его уникальный портрет сегодня хранится в Череповце, в местном музее. Генерал Адольф фон Вендланд служил в одном из старейших полков Русской армии – лейб-гвардии Литовском полку. С началом Первой мировой войны архив полка был эвакуирован в тыл. Спустя какое-то время часть документов отправили в Москву и Санкт-Петербург, но и в Череповце осталось немало исторических ценностей. В том числе и этот портрет.
Генерал Адольф фон Вендланд Капоры, бархатные платья, кружевные воротнички, игра на фортепиано, изучение языков (три), приставка «фон»… Папа – действительный тайный советник, служит в Адмиралтействе. Мама – дочь сенатора. Еще один дедушка, тоже генерал. Удивительно, что его уникальный портрет сегодня хранится в Череповце, в местном музее. Генерал Адольф фон Вендланд служил в одном из старейших полков Русской армии – лейб-гвардии Литовском полку. С началом Первой мировой войны архив полка был эвакуирован в тыл. Спустя какое-то время часть документов отправили в Москву и Санкт-Петербург, но и в Череповце осталось немало исторических ценностей. В том числе и этот портрет.
Захотелось понять логику жизненного пути Елизаветы Николаевны Вендланд – от маленькой девочки, которую бонна водила в Швейцарии по магазинам, чтоб она практиковалась во французском, до капитана медицинской службы в эвакогоспитале Сталинграда.
Но вот в чем загвоздка. Никаких сведений о ней этого периода у меня не было. Сохранилось множество писем, воспоминаний, дневников, которые вели брат и сестра Вендланд. Но о Великой Отечественной войне там ни слова. Лишь два письма-треугольника Елизаветы Николаевны с фронта и один абзац из воспоминаний митрополита Иоанна:
«Сестру мою Елизавету Николаевну как врача мобилизовали, когда мы жили в Средней Азии. Их госпиталь прибыл в Сталинград и далее двигался за наступающей передовой. Потом их передали в состав Войска Польского, и они закончили войну в польском городе Быдгоще. Моя сестра получила награду от народной Польши – особый Крест».
Сталинград
И вот в мои руки попадает личное дело митрополита Иоанна из архива Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР. Поделился им московский иерей Николай Савенков. Он пишет научную работу о митрополите Иоанне (Вендланде).
 Фотография Е. Вендланд из личного дела В конце 1950-х годов архимандрита Иоанна командировали за границу. Вначале на Ближний Восток, потом – в Германию, США. Анкет ему приходилось заполнять много. Но в найденном личном деле было нечто новое – анкета и автобиография сестры. Таким образом я узнала номер эвакогоспиталя, в котором работала врачом капитан медицинской службы Елизавета Николаевна Вендланд – № 1796. Лечили в нем солдат и офицеров с ранениями конечностей. В пропорциональном отношении таких госпиталей было больше всего.
Фотография Е. Вендланд из личного дела В конце 1950-х годов архимандрита Иоанна командировали за границу. Вначале на Ближний Восток, потом – в Германию, США. Анкет ему приходилось заполнять много. Но в найденном личном деле было нечто новое – анкета и автобиография сестры. Таким образом я узнала номер эвакогоспиталя, в котором работала врачом капитан медицинской службы Елизавета Николаевна Вендланд – № 1796. Лечили в нем солдат и офицеров с ранениями конечностей. В пропорциональном отношении таких госпиталей было больше всего.
До Сталинграда Елизавета Николаевна уже работала в военном госпитале в Ташкенте. Митрополит Иоанн:
«Ухаживая в госпитале за больными, Эли заразилась сыпным тифом. После выздоровления она была мобилизована на фронт».
Есть такой распространенный исследовательский прием: если нет прямой информации – ищи косвенную. Нахожу воспоминания об этом эвакогоспитале санитарки Марии Сердюковой. Удача! Ведь только вокруг Сталинграда было 80 эвакогоспиталей. Поди найди нужные воспоминания. А тут – прямо в руки пришли. Спасибо тебе, Мария Гавриловна.
– В то время повсюду царила страшная разруха. Меня определили в эвакогоспиталь № 1796. Это надо было видеть, что там творилось: везли тяжелораненых, без ног и без рук. Хирургами трудились военврачи, которые ходили в форме с погонами, а медсестры, как и мы, санитарки, носили свою гражданскую одежду.
В основном санитарками были девчонки из деревень и хуторов. Им поручали самую грязную и тяжелую работу в палатах. Ставили и в перевязочную, когда медсестер не хватало. Дежурили посменно, сутки через сутки, а то и чаще. Когда снимали гипс, то разматывали бинты, размачивали их, соскабливали гипс, гладили и снова использовали. Даже тяжелейшие ранения не всегда могли перевязать, не было материала. Солдаты с открытыми ранами кричали от боли. Стрептоцид выдавали регулярно. А вот о пенициллине даже не слышали.
В госпитале № 1796 находились на излечении бойцы не только с ранениями, но и с обморожениями конечностей. Люди получали увечья в результате длительного пребывания на холоде без движения, из-за промокших портянок, из-за тесной и неудобной обуви. Хирургическим путем удалялись пораженные ткани, гнойные массы, делали дренажи ран, смазывали их рыбьим жиром.
О врачах Мария Гаврилюк вспоминала так:
«Очень добродушные, отзывчивые и хорошие специалисты».
О досуге:
« – В госпиталь приезжали артисты, и среди них Тарапунька и Штепсель, показывали дуэт повара Галкина и банщика Мочалкина. Они еще совсем молодыми были. Как сейчас помню, мы выносили раненых на улицу – тепленько во дворе, – чтобы они посмотрели комедийный дуэт и послушали великолепные шутки.
– Как раненые к вам относились?
– По-всякому. Люди же разные, ведь ребята молодые, рана сильно болит, а помочь некому, вот и матерились, ругали нас. Все довелось увидеть в госпитале. Было и по-другому. В Сталинграде я обслуживала офицерскую палату, где лежало четверо мужчин, они очень хорошо ко мне относились. Офицеров кормили по-другому, чем солдат. Они мне могли даже кусочек американской ленд-лизовской вареной колбасы из банки дать. Один офицер, помню, дядечка, не из русских, умер. Он был ранен в руку, и у него ночью открылась рана, пошло кровотечение, и дядечки не стало. Прихожу на дежурство, а в коридоре стоят носилки, на них тело закрыто простынею. Думаю, кто же это. Открываю, а это мой знакомый дядечка. Здоровый молодой мужик. Мужчины очень плохо переносили кровотечение. Я по нему сильно плакала. Так страшно видеть все эти смерти в госпитале.
– Как кормили в госпитале?
– Нас, вольнонаемных, два раза в день кормили. С котелочками стояли в столовой, нам галушки варили, разные супы и хлеб давали. По крайней мере уж голодными не были. Во время войны это еще благодать.
– Вши у медперсонала заводились?
– Куда же без них. Тогда и у солдат было их полно. Мне нечему удивляться, ведь до войны на нашем хуторе все вшей носили. Так что для меня они диковиной не стали».
Протоиерей Леонид Кузьминов, ещё мальчишкой знавший Елизавету Николавну по Ташкенту, вспоминал:
«Елизавета Николаевна оказывала помощь раненым в условиях, где уже исчезала надежда, ослабевала вера, но оставалась любовь. Господу угодна была такая самоотверженная любовь, и Он продлил ей жизнь».
Открытка от архиепископа Луки Крымского
 Открытка архиепископа Луки, адресованная Е. Вендланд. 1 ноября 1946 г.
Открытка архиепископа Луки, адресованная Е. Вендланд. 1 ноября 1946 г.
7 мая 1944 года эвакогоспиталь № 1796 прибыл в Симферополь. Севастополь еще был под немцами. В этот же день при массированной поддержке авиации 4-го Украинского фронта начался генеральный штурм Севастопольского укрепленного района. 9 мая советские войска ворвались в город и освободили его.
Госпиталь разместили в здании Симферопольского пединститута на улице Ленина. К ним пошли раненые.
«Целая тьма. Это ужас, я не могу даже пересказать сейчас, что тогда происходило. ‟Летучки” шли к нам нескончаемым потоком».
Оказалось, что у капитана медицинской службы Вендланд в Крыму были и свои интересы.
Познакомилась она с владыкой в Узбекистане еще до войны. Она была участковым врачом, а он – профессором хирургии
Как это удалось узнать? В архиве ее брата сохранилась почтовая открытка от архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) на имя Елизаветы Николаевны. Познакомилась она с владыкой в Узбекистане еще до войны. Она была участковым врачом, а он – профессором хирургии, известным в Ташкенте человеком. Когда отец Гурий заболел крупозным воспалением легких, она привела владыку к нему.
Первое, на что обратил внимание архиепископ Лука, был образ Спасителя в терновом венце кисти В. Васнецова. Это был образ, который друзья подарили отцу Гурию еще в 1915-м году, при его постриге. Владыка Лука (сам художник) остановился на пороге комнаты, с восторгом глядя на икону. «Это лучшее изображение Спасителя, которое я когда-либо видел», – наконец произнес он.
Затем архиепископ осмотрел больного. «Вы скоро поправитесь», – сказал он. Отец Гурий возразил, сказав, что «монаху надо думать о смерти, а не о выздоровлении». «О чем думать монаху, вам лучше знать, – властно сказал архиепископ, – но я, как врач, говорю вам, что поправитесь, и притом скоро».
И действительно, отец Гурий стал быстро выздоравливать.
Открытка датирована 1-м ноября 1946 года. Война закончилась. Архиепископ Лука – правящий архиерей Крымской епархии, а Елизавета Николаевна после демобилизации уже вернулась в Ташкент.
Люди старшего поколения помнят эти не вложенные в конверт так называемые «открытые письма», которые мог прочитать каждый, в чьи руки они попадали. На одной стороне «куда – кому»: «Ташкент. Ул. 5 декабря д-59. Е.Н. Вендланд». Адрес отправителя: «Архиепископ Лука. Симферополь, Госпитальная, 1» . В этом доме на Госпитальной (сейчас улица называется Курчатова) со времени своего приезда в Крым в 1946-м году святитель жил и бесплатно принимал больных практически до самой своей кончины в 1961-м году. На оборотной стороне открытого письма рукой архиепископа Луки написано:
«Архимандрит Тихон жив, в Симферополе. Пишите ему по моему адресу, передам. Господь да благословит Вас. Архиепископ Лука. 1 ноября».
Нет сомнений, что речь идет об архимандрите Тихоне (в миру – Богославец или Богуславец Тимофей Климентович, 1859–1950). Когда святитель Лука прибыл на Крымскую кафедру, о. Тихон стал его духовником и духовником всей Крымской епархии.
Митрополит Вениамин (Федченков) называл его «крымским подвижником»:
«Был он духовным сыном оптинского старца Амвросия. Последний, под видом некоей юродивости, дал о. Тихону заповедь:
– Будь почудаковатее!
Он всегда шутил, смеялся, рассказывал веселые случаи, поговорки и пр. Жалобы, уныние, огорчение – не были знакомы ему, особенно на людях, а сердечный плач он скрывал. Лицо у него всегда было светлое, сияющее, розовое, без единой морщинки. И в 90 лет он был бодр и весел, не походил на старика. Но в присутствии тех, кому он доверял, был строг и серьезен. Он был наделен от Бога даром старчества».
До войны он был игуменом Инкерманского монастыря возле Севастополя, а во время войны монастырь был закрыт. Тихон поселился в Симферополе в одинокой келлии.
Архиепископ Лука говорил о нем:
«Его любил весь православный народ Крыма; и не только Крыма, но и Южной Украины: и Мелитополь, и Геническ его знали, знали и любили, и почитали глубоко... А в Симферополе к нему постоянно шел народ за богомудрыми советами, за утешениями в скорбях своих. Народ шел к нему, ибо народу никто так не нужен, как подобные молитвенники о земле русской…».
Елизавета Николаевна, судя по всему, находясь в Симферополе, встречалась со старцем
Вот и Елизавета Николаевна, судя по всему, находясь в Симферополе, встречалась со старцем. Она ничего не делала без благословения. И можно предположить, что подвигнул ее на это духовный отец – архимандрит Гурий. Церковь жила своей потаенной жизнью, вне зависимости от того, в платочках были ее чада или в военной форме. Ныне архимандрит Тихон покоится в подземном склепе Всехсвятского храма в Симферополе. Возле храма находится могила и митрополита Гурия (Егорова), ее духовного отца.
Письма с фронта
В конце 1944 года эвакогоспиталь № 1796 в составе других советских военных госпиталей вошел в состав Войска Польского и расположился в городе Быдгощ (немецкое название до 1946 г. – Бромберг). Сегодня это столица воеводства, один из крупнейших городов Польши.
До нынешнего времени в Быдгощи сохранилось воинское кладбище времен Великой Отечественной войны, где, по официальным данным, в 93-х братских могилах захоронено 1 404 человека, в том числе 1 183 военнослужащих Красной Армии. Известны имена 567 человек. Кроме погибших на поле боя, в могилах лежат солдаты и офицеры, умершие в госпиталях от ран.
 Открытка с видом польского города Быдгощ
Открытка с видом польского города Быдгощ
После окончания войны на это кладбище переносили останки воинов с мест первоначальных захоронений. К тому моменту надписи на многих могилах не сохранились, поэтому перезахоранивались многие как неизвестные, без указания фамилии. В центре мемориала и сейчас стоит стела с надписью на польском и русском языках:
«Вечная слава героям Красной Армии, павшим в борьбе за освобождение нашего города. Жители города Быдгощ».
 Памятная стела в Быдгощи (современная фотография. Фото с сайта prussia39.ru
Памятная стела в Быдгощи (современная фотография. Фото с сайта prussia39.ru
От польского периода жизни Елизаветы Николаевны сохранились открытка, бумажная иконка целителя Пантелеимона и два письма брату в Ташкент
Судя по многочисленным фотографиям в Интернете (последние – 2024 года) , кладбище пребывает в хорошем состоянии. До недавнего времени россияне свободно ездили в Быдгощ, навещали могилы родных, делились на форумах информацией, рисовали схемы расположения могил, фотографировали памятники. В числе помощников были и поляки. Вот как о них отзывались наши соотечественники:
«Жители в Польше – вполне адекватные люди, на самом деле. Поездки в Польшу никаких рисков не содержат ни для россиян, ни для граждан других стран».
От польского периода жизни Елизаветы Николаевны сохранились открытка с видом города Быдгощ, бумажная иконка целителя Пантелеимона и два письма, адресованных брату в Ташкент, с обратным адресом «полевая почта», написанные карандашом и сложенные в треугольник.
 Бумажная иконка целителя Пантелеимона, которая была с Е.Н. Вендланд на фронте Письмо первое:
Бумажная иконка целителя Пантелеимона, которая была с Е.Н. Вендланд на фронте Письмо первое:
«14.12. 44 г.
Дорогой мой, милый братец.
Спасибо тебе за письма от 9 сентября и 12 октября. Я опять, как в прошлом году, не узнала твоего почерка и думала, что оно от дяди. Открытка от 9/IX пришла порванной, был вырван один угол, но всё-таки смысл можно было понять. Очень меня обрадовали оба эти письма. Во-первых, тем, что они от тебя, что ты здоров, а особенно порадовали своим содержанием.
Я обязательно привезу, постараюсь привезти, свои заметки из Хризостома. Меня особенно вот что пленяет у него: отношение к уму, и отсюда вывод – подход к вере. Я ликую, когда читаю его простые объяснения истин веры.
Какое высочайшее смиренномудрие! Какая глубина и реальность веры, не требующая никаких изысканных доказательств.
Потом, меня пленяет то, как он описывает процесс проповеди апостолов, постепенность уверования язычниками, римлянами, переход от низших форм веры к раскрытию высших. Не сразу открывается все...
Читаю Деяния, и меня приводит в трепет простота проповеди апостолов, раскрытие ими домостроительства Божия и действие этой простой речи на слушающих.
Я всегда думаю при этом о маме: мы от нее требовали сразу всего. А этого не требовал от людей даже он, Павел. Он знал, что это будет потом, а пока довольствовался лишь детской пищей, молоком. Все это так прекрасно изложено у Хризостома. Как твое мнение?
А его отношение к Ветхому Завету, к пророкам. Его (Хризостома) произведения – это прекраснейший гимн Богу. Как бы хотелось поговорить с тобой, узнать, что ты думаешь по этому поводу. Очень хочется мне приобрести Библию, почитать пророков.
Другая помощь мне – это книжка I. Сергиева. Там ответы и руководство почти на все случаи жизни.
Какое счастье нам, что Витя вернулся. Помимо всего прочего, это же будет большой поддержкой т. Нине, за здоровье которой я очень беспокоюсь. Напиши объективно, что ты знаешь про её здоровье. Подумать только, что опять наш дом будет оживлен, опять будет там душа его. Витя меня сильно утешил письмом, которое он писал, сидя с тобой в комнате. Я не смею желать возвращения, всё в руках Божиих, как Он изволит. Книги Хризостома очень в этом отношении подкрепляют.
…Ну, будь здоров, дорогой мой братец. Прошу тебя написать мне. Пиши только на полевую почту.
Лиза.
Черного моря я так и не видела».
Письмо второе:
«21 (не разборч.) 44 г.
Дорогой мой, милый братец.
Шлю тебе запоздавшее поздравление с Днем Ангела. Часто, почти всегда думаю о тебе, беспокоюсь о твоем здоровье. Хочется мне повидать тебя, но не скоро это ещё будет, и так тоскливо делается, думаю, может быть, и не придется, может быть, смерть нас разлучит. Хочется мне тебе высказать свои мысли. Много есть чего тебе сказать. Во-первых, как бы мне хотелось восхвалить с тобой вместе I.Зл. Я всё лето питалась им и восхищалась и счастлива тем, что имею две книжки его, Деяния Римл., а также переписанные песни ему. Когда вернусь домой, вот буду читать!
Не могу тебе передать, сколько чувств сейчас наполняют мою душу. Ночью снится, и днём думаю о Лумне, о нашей любимой бабушке. Так ясно вижу во сне все любимые места. Все мне в моей жизни кажется таким удивительным, все так направлено целесообразно.
Прошу тебя осчастливить меня письмецом, напиши про Дедушку, про т. Нину. Что ты знаешь о ее здоровье? У меня прямо сердце сжимается, когда подумаю, что можем и ее потерять. Если бы ты мог почитать, какие необыкновенно трогательные письма она мне пишет. Я прямо даже боюсь, что она достигла такой высоты и любви, что нечего ей уже делать на земле, а все-таки я в глубине сердца питаю надежду повидать вас всех еще. Ваши письма лежат передо мною, и часто я их читаю. Вся жизнь моя вспоминается мне теперь.
Пришли твою фотокарточку, пришей к письму и припиши просьбу цензуре, чтобы пропустили…
Будьте все здоровы и простите меня.
Лиза.
Решила выписать аттестат на твое имя, т.к. иначе не могу переслать вам деньги. Ты уж потрудись, если и затруднит тебя получение денег. Когда вышлю, – напишу».
«Хризостом» и «I.Зл» – это Иоанн Златоуст. И, скорее всего, речь идет о его работах «Беседы на Деяния Апостольские» и «Беседы на послание к Римлянам».
 Рядовой Александр Хархаров.1943 г. «I. Сергеев» – Иоанн Кронштадтский. «Бабушка лумянская» – Елизавета Карловна Шильдер. «Витя» и «Дедушка» – это архимандрит Гурий. Его имя до монашеского пострига было Вячеслав, а дома его называли Витя. Близкие владыки Гурия знали об этом. «Тетя Нина» – игуменья Серафима (Яковлева). А за фразой «Подумать только, что опять наш дом будет оживлен, опять будет там душа его» скрывается вот что: в 1944-м году архимандрит Гурий вышел из подполья. Начинался новый этап жизни его духовной семьи – открытое служение Церкви. Так оно и получилось.
Рядовой Александр Хархаров.1943 г. «I. Сергеев» – Иоанн Кронштадтский. «Бабушка лумянская» – Елизавета Карловна Шильдер. «Витя» и «Дедушка» – это архимандрит Гурий. Его имя до монашеского пострига было Вячеслав, а дома его называли Витя. Близкие владыки Гурия знали об этом. «Тетя Нина» – игуменья Серафима (Яковлева). А за фразой «Подумать только, что опять наш дом будет оживлен, опять будет там душа его» скрывается вот что: в 1944-м году архимандрит Гурий вышел из подполья. Начинался новый этап жизни его духовной семьи – открытое служение Церкви. Так оно и получилось.
Если дело касалось конкретных людей, Елизавета Николаевна шифровалась. Но при этом открытым текстом писала: «Ветхий Завет», «Библия», «пророки», «апостолы», «Бог», «в руках Божиих». Почему? Возможно, государственная политика ослабления оков в отношении Церкви в виде инструкций была доведена и до цензуры? Может быть, офицеры пользовались большей свободой, чем рядовые? Не знаем. У рядового связиста Саши Хархарова (архиепископ Михей рассказывал сам) нашли в личных вещах и изъяли Евангелие. Командир вызывал его для объяснения. Правда, потом Евангелие вернул.
(Продолжение следует.)