От Борисоглебского монастыря до святого колодчика в с. Кондаково – на родине преподобного Иринарха, затворника Борисоглебского… Вот уже много лет четыре июльских дня тянется по этим местам – через деревни, луга, леса – людская река: Иринарховский крестный ход. В этом году Иринарховский крестный ход пройдет с 24 по 28 июля.
Для многих и многих, идущих крестным ходом, время течет по-особому. И вспоминается многое. И понимается многое. И прощается многое. И открывается многое. Об этом – повесть писателя Сергея Щербакова.
Аудио. Читает автор.
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
Скачать![]()
(MP3 файл. Продолжительность
***
Самая длинная ночь в году – 21 декабря. В 2003-м она стала для нас с женой самой долгой: утром умер наш песик Малыш. Двенадцать лет он был нашим верным другом. Я любил его зрячей любовью: «посмотрю на него – и пишу», «посмотрю на него – и прощаю ближним и дальним», «посмотрю на него внутренним оком – и ухожу из нехорошего места»… При нем я даже на жену стал меньше гневаться. При ссоре он становился между нами и начинал требовательно лаять: мол, прекратите беса тешить. Если его не слушались, то забивался в угол под лавку и не выходил, пока мир снова не воцарялся в доме…
Почти полгода я писал про Малыша рассказ. Чувствовал: если не расскажу о нем, то старые яблони в нашем саду, под которыми похоронен Малыш, заплачут горькими слезами, и стану я предателем. Малыш такую службу нам сослужил…
В конце апреля, как обычно, приехал на все лето в деревню и сразу понял: не могу здесь жить один без Малыша. В придачу все мои болезни обострились. С Малышом-то я каждый день километров десять уж точно нагуливал. Наши деревенские, если кто из горожан жалуется на здоровье, обычно говорят: «Шевелиться надо». Конечно, я с ними согласен, но все же есть в жизни кое-что поважнее шевеления: любящее существо рядом…
Да и деревня на этот раз встретила неласково. «Ока» моя много лет спокойно ночевала перед домом возле нашего дуба, а тут вдруг стали из нее бензин сливать. За два десятка лет никто в Старове у меня гвоздя не украл. Вернее, гвозди-то один украл, и Малыш, всем людям дружелюбно ставивший на грудь лапы, не выносил его присутствия. Когда он заходил ко мне, то приходилось Малыша держать…
Поделился своей печалью с соседским парнишкой, а он простодушно ответил: «Дядя Сережа, я на дискотеку в Вощажниково не езжу – мотоцикл сломан, да и неинтересно мне там…» Я же и минуты на него не думал, зато понял, где нужно искать. В тот же день узнал, кто ездит на дискотеку в Вощажниково. Но не пойман – не вор. В милицию с такой просьбой смешно обращаться (они теперь серьезной работой завалены!), да и в деревне надо разбираться без милиции – иначе только усугубишь все. Одну-другую ночь посторожил и махнул рукой. И снова Малыша добрым словом вспомнил: он людей за сто метров чуял и лаял – потому с пакостями близко к дому никто не лез.
А парнишка соседский как-то зашел и совсем расстроил. Потрогав над своей головой ветку нашего дуба, спросил: «Дядя Сережа, можно с вашего дуба веток нарезать для веника? Говорят: дубовым лучше париться, чем березовым». Я так растерялся, что даже не смог толком ничего объяснить. Меня просто сразило, что такое могло ему в голову прийти. Дуб этот – родное существо для меня. Я с ним здороваюсь каждое утро. Днем гляжу на него из окна и никак не могу наглядеться, и столько хороших мыслей у меня родилось при этом глядении. А какое чудо каждый день входить в калитку под дубом… Однажды электрики срубили две его большие ветки: проводам они мешали – и вся листва засохла посреди лета. Как мы с Мариной горевали, как горевали. Но следующей весной в конце мая листва на дубе снова распустилась. Это был для нас праздник.
Сосед ушел, я с нежностью поглядел на дуб и вдруг увидал: в одном месте ветка срублена, в другом, в третьем… Сердце сжалось от боли. Без Малыша я и дуб не могу уберечь. И так у меня смерть столько близких отняла в последние годы: друга Костю, соседа Александра Иваныча, Малыша нашего… А теперь на дуб покушаются. Остается только крестить его почаще…
Настолько стало тоскливо в деревне, что я ни разу не порадовался, не сказал вслух как раньше: «Ну, дело к лету: на синем небе воцарились белые облака…» Обычно делился этой радостью с Малышом…
И потому с большой надеждой ждал своего московского товарища Ивана. А Иван приехал и, даже не дав о себе знать, сразу поселился в монастыре, и только через неделю я увидал его на литургии. Подошел к нему, а он как-то боком, отвечает односложно, этак «по-монашески» отрешенно. Больно мне стало: мы с женой всегда откликались на его просьбы, старались помочь в меру наших сил… и в Борисоглеб я его привез, в самом лучшем свете рекомендовал отцу Иоанну, наместнику Борисоглебского монастыря. Отошел от него в большой печали – даже решил спросить отца Иоанна: хорошо ли так поступать православному? Чуть ли не монахом уже себя считает, а спросить, как мне живется, зная про мои болезни, про смерть Малыша, даже в голову ему не пришло. Так я на него рассчитывал! Если у самого душа не на месте, духом ослаб, то сказал бы прямо: «Сергей, хочешь, я с тобой поживу? Но у меня у самого такое состояние, когда лучше бы подкрепить дух в монастыре». Конечно, я бы поддержал его: «Иди, друг, в монастырь», но насколько бы мне тогда было легче. И он бы поступил по-христиански. Чуть я в Москву не уехал посреди лета – так мне невмоготу стало от одиночества.
Но каждый раз при встрече с отцом Иоанном я почему-то все откладывал этот разговор, а потом узнал, что наместник отправил Ивана для работ на храме в Кондакове – на родину преподобного Иринарха Затворника, и я решил поговорить после крестного хода.
Раньше в трудную минуту я теснее прилеплялся к монастырю, а тут и это у меня отняли. Один из работников монастырских, когда я к нему подошел: мол, книга о монастыре «Борисоглебское лето» (я – один из авторов этой книги) в Москве уже разошлась, и издатель интересуется, не надо ли повторить тираж, – вдруг резко ответил, что он не желает иметь каких-либо дел с нашей книгой. Оказывается, один московский журналист увидал, что преподобный Иринарх на обложке похож на патриарха Алексия II, и заявил, что это очень нехорошо. Настолько это было неожиданно, что я не смог ничего возразить. Конечно, потом-то подумал: ну и что плохого. Ведь не на Гусинского, не на Гайдара…
Дальше – больше: стал этот работник меня притеснять. Уже много лет на воскресные крестные ходы вокруг монастыря мне всегда давали икону преподобного Сергия Радонежского. Конечно, всякий раз я чувствовал в душе великий трепет. И вдруг он, отлично всё зная, стал наделять меня первой подвернувшейся под руку иконой. Совсем я закручинился и даже хотел уж сказать, что не ему решать, кому сколько благодати дать, но вспомнил свои грехи, вспомнил, что мне, грешному, надо бы, как святому Варвару, со свиньями жить, в лучшем случае – стоять на коленях у врат монастырских, и решил терпеть…
За несколько дней до крестного хода из Борисоглеба на колодчик преподобного Иринарха-затворника в село Кондаково случилась со мной еще одна неприятность. Прямо возле монастырского храма Бориса и Глеба поссорился я с Семеном. Он некоторое время жил в монастыре трудником, но на службы ходил редко и уж слишком много смеялся (помните, где глупый возвышает в смехе голос свой, там умный слегка улыбнется?). За десять лет я много перевидал трудников, приходивших в монастырь стать монахами. Все, кто редко ходил на службы и любил много шутить, ушли из монастыря. Семен не стал исключением.
Вхожу в храм, а он выходит. Как старые знакомые расцеловались. «Как жизнь?» – он спрашивает. Ну, я сказал, что Малыш мой умер, что нелегко теперь жить одному в деревне, тем более что Малыша-то мне Бог послал. Семен, надо сказать, любит умничать, да еще духовной литературы начитался. И тут он себе не изменил: этак многозначительно протянул: «Это вещь тонкая». Конечно, меня задело за сердце. В общем, слово за слово и он вдруг говорит, что лучше собак знает – у него их десять было, а у меня всего одна. А я ему: «Потому и не знаешь». Имея в виду, что у кого одна жена была, тот и знает женщин, а не тот, у кого их сто было. И чувствуя, что я сейчас такого ему могу наговорить, сам перекрестился, его перекрестил и быстрее вошел в храм.
Дома, конечно, запереживал. Семен и так-то нечасто на службах в монастыре бывает, а теперь я его совсем от храма отбил поди… Когда в следующее воскресенье увидал Семена, так обрадовался, что совершенно спокойно попросил прощения и сразу прошел на литургию. На этот раз хорошо помня, что при многословии не миновать греха. В прошлый раз многословили, да еще прямо на ступенях храма, – тут как тут бес и вклинился. Ладно, Господь не попустил дальше греху развиться. Правда, я всё же боялся, что Семен не пойдет в крестном ходе. Нет, слава Богу, пошел.
В общем, худо мне было. В начале июля поехал в Москву за женой с внуком. Привез. Стоим у ворот, а Алешка шустрый – быстро выскочил из машины и мигом оказался на крыльце. Вдруг видим: руками замахал, заплакал. Я вспомнил, что под крыльцом осы слепили свою серебряную ракушку. Оказалось, три осы его укусили. Я объяснил Алешке, что на крыльце теперь надо вести себя спокойно: не прыгать, не бегать, руками не махать. Про себя даже подумал, что это промыслительно: Алешка все крутится-вертится, непослушный очень, а тут поневоле будет смирным. Но Марина, без памяти любящая Алешку, была другого мнения и потребовала убрать ос. Я, конечно, не согласился: дескать, что значит убрать, убить что ли?.. С этого началось, и я сразу так устал от них, что не чаял дождаться крестного хода. До крестного хода я никак не мог их отослать в Москву – это святое. Зато частенько говорил им, что, скорее всего, они уедут из деревни раньше намеченного срока. Они собирались аж до осени жить.
Потом прибыла дочь с четырехлетней нашей внучкой Дашей. Во время крестного хода хочется быть в покое, в тишине, в празднике, а тут сплошная суета, теснота, раздражение, усталость. Но мы с Мариной твердо решили: сколько бы человек ни приехало к нам на крестный ход – всех примем. Правда, больше шести не было. Зато какие характеры! Все всё знают, любят других поучать смирению. То есть нас с Мариной – нам-то, как хозяевам, больше всех достается, и мы чаще срываемся. А уж молитвенники зато: надо ужин готовить, а они акафисты по углам читают. Иной раз чуть уж с языка не сорвется: мол, если вы такие благочестивые, то помогите сначала, а молитвы ночью читайте – чтобы не за счет ближних, за стол-то ведь садиться не отказываетесь.
За восемь лет крестных ходов гостей у нас немало перебывало, но Голубичка и Комдесю – эти постоянно прибывают в последний день перед крестным ходом и уезжают на другой день после завершения. Голубичка она потому, что ходит на ночные службы аж на Афонское подворье, не выпускает из рук молитвослова и всё со вздохом. А Люсю€-Комдесю – это наша с Мариной «крестная», она нас познакомила и была все годы ангелом-хранителем нашей семьи. В первый раз на крестный ход Люсю€ прибыла в соломенной шляпке и всё старалась нас облагодетельствовать. Шутливо-любовно я назвал ее европейский головной убор шляпкой Комдесю. Комдесю тогда распоряжался финансами Евросоюза. Шляпку сразу после крестного хода унесло ветром на нашей реке Устье, а Люсю€ мы с тех пор зовем Комдесю.
У Голубички и Комдесю свои уголки. Комдесю спит в большой комнате на тахте – она и сама большая; а маленькая Голубичка предпочитает на мосту возле окна (мостом на Ярославщине называют помещение, соединяющее дом с крытым двором) – чтобы просыпаться вместе с солнцем. В этом году она опять приехала, а вот Комдесю не смогла. Кроссовки ее так и простояли сиротливо в углу в сенях. Зимой в Москве я звоню Комдесю по телефону, напоминаю, что кроссовки ее дожидаются. Или она звонит сама, спрашивает, целы ли кроссовки…
***
К ночи так я устал от многолюдства, что цветные круги перед глазами поплыли. А я наконец-то решился махнуть рукой на свои болезни и пройти крестный ход пешком, а то всё на машине сопровождал: вещи подвозил, ослабевших очень, книгами монастырскими торговал в деревнях. А как же мне хотелось пройти крестный ход вместе со всеми пешком! И вот собрался, а тут…
Мое место ночлега во время крестного хода в светелке. Одеял на всех не хватает, и я, как всегда, под пуховым сплю. Под ним тяжело, жарко, душно – я даже шучу, что это мои вериги; а совсем без одеяла – холодно. Всю ночь я проворочался. Утром встал больной, тяжелый, потеряв всякую надежду… Решил идти насколько духу хватит. Уж до Селищ-то как-нибудь доплетусь. А если до Павлова села дотяну, то хоть один день из четырех одолею. А там видно будет. Марина, видя мое состояние, утешила: «Вспомни, как плохо было тебе перед первым крестным ходом, а потом ничего». Я вспомнил и немного приободрился.
За нашим столпотворением опоздали на литургию. Пришлось возле храма постоять. Хотя Голубичка, несмотря на свои семь десятков лет, просочилась в храм. На то она и Голубичка…
Всегда сначала кажется, что в этом году народу приехало гораздо меньше. Становится грустно. Но вот запели молитвы, поплыли над головами хоругви, и вдруг народу начало прибавляться, прибавляться… Пропускаю возле врат монастырских крестоходцев и вижу: живая река человеческая тянется и тянется. Потом посчитали – оказалось больше двух тысяч человек. А в прошлом году было около двух тысяч.
Глянул вправо – в окнах редакции районной газеты мелькнули человеческие лица. Видимо, тайком друг от друга глядели и удивлялись, как же много у нас народу. Никак они не образумятся. Несколько лет назад пришли в монастырь люди: мол, завелись у них в доме чебурашки. То есть бесы, по-нашему. Отец Иоанн, конечно, объяснил, что он мало чем может помочь им, пока они не окрестятся, не начнут жить чисто, по-христиански; что в сегодняшнем их духовном состоянии даже освящать дом бесполезно. В общем, должны они сначала сами себе помочь. Живи чисто – и грязи не будет. Тараканы заводятся там, где грязно. Люди те ничего не поняли, обиделись на отца Иоанна, пошли жаловаться в газету. Корреспондент, человек неверующий, тоже не понял отца Иоанна, зато написал бойкую статью о чебурашках в борисоглебском доме. Хотя отец Иоанн предупредил его, что надо поосторожнее: с бесами шутки плохи. Вскоре редакция сгорела. Но сотрудники ее не вразумились – стали «защищать» от наместника монастыря халтурщиков-реставраторов. Теперь они держат сторону музейщиков, никак не желающих мирно сотрудничать с наместником обители.
Марина с Алешкой сразу пошли в самом истоке крестного хода, где даже не слышно пения молитв. Оставить их я не мог – с тоской побрел вместе с ними. Когда сделали первую остановку на святом колодце в Опольневе, то я уже не мог спокойно глядеть на горожан, кидавшихся за каждой ягодкой (им в диковинку, что черника растет прямо у дороги); не мог слушать разговоры молодых ребят о том, кто какой язык изучает. Один с гордостью похвастался, что изучает японский, дескать, это самый красивый язык. Марина, прошедшая все крестные ходы, говорила до этого, что всегда впереди молитвы поют, а сзади болтают, шутят. В общем, «возьмите нас собой, туристы». Это мы с Мариной так образно припечатываем любое легкомысленное передвижение. Один из нас спросит: куда эти люди едут, идут? А другой отвечает: возьмите нас с собой, туристы. Был когда-то такой завлекательный фильм на круговой кинопанораме на ВДНХ. И мы дружно говорим: «Нет, господа туристы, нам с вами не по пути».
Молебен у источника в Опольневе всегда кажется долгим-долгим. Не успеешь толком разойтись, а уж встали, и на целый час. Сразу усталость какая-то душевная, настроение совсем падает. Да еще Марина разрешила Алешке ягоды собирать, когда я уже не могу глядеть, как другие это делают. Начинает казаться, что праздника крестного хода нынче не будет, а будет одна тоска, раздражение, сырость, грязь. За спиной – о языках…
Наконец двинулись. Между огородами, какими-то тропками и закоулками выходим на Троицу в Бору. Сразу от этого раскрывшегося раздолья Борисоглебского уныние улетучивается. В Опольневе – густой сосновый бор, и даже неба мало видно, а тут просторно, вольно и надо всем этим высится белая колокольня.
После молебна у развалин храма служим литию на кладбище. Кладбища-то, собственно, нет – один большой деревянный крест, воздвигнутый моим добрым знакомым Сашей Шелудченковым. Несколько лет назад здесь произошла целая духовная битва. Тогдашняя администрация района (главой был А.Ф. Матюхин) решила построить на старом кладбище водонапорную башню. Игумен Иоанн, наместник Борисоглебского монастыря, объяснил администрации, что ставить водонапорную башню на кладбище нельзя. Это будет кощунство, да и законы запрещают, к тому же опасно: микробы болезней живут десятки, а то и сотни лет, а допрежь каких только не было эпидемий. Тем более что речь идет о питьевой воде. Однако администрация заявила, что всё уже решено и никто не собирается этого решения отменять. Вырыли котлован, потревожив прах многих людей. Братия монастырская пришла, собрала эти русские косточки. И после литургии отец Иоанн призвал прихожан монастыря прийти к котловану с лопатами. И напомнил, что апостол Петр, когда пошел по воде навстречу Христу, то начал тонуть именно после того, как подумал о себе. А до этого шел по воде, как по суше. Мол, кто не придет (о себе подумает), тот начнет тонуть в пучине, как Петр. Не думай о себе – и не утонешь.
Люди пришли, много людей, и быстро закопали котлован лопатами. Отец Иоанн потом не раз с гордостью говорил, что экскаватор три дня рыл, а православные за четыре часа закопали.
Но бесу всё неймется, всё находит он себе помощников. Теперь местные предприниматели собрались строить торговый центр прямо у стен монастыря. Опять с деньгами связано. Несколько лет назад построили через дорогу от монастыря питейно-увеселительное заведение «Ника». Отец Иоанн не раз обращался к администрации района, губернии, даже в Москву ездил: дескать, по закону нельзя такие заведения открывать в трехсотметровой зоне вокруг монастыря, но тогда враг победил. Потому, думаю, и название такое глумливое «Ника» (языческая богиня победы). Я уверен, если бы сейчас начали «Нику» строить, то теперь и ее, как котлован, прихожане лопатами закопали бы.
Так вот, после литургии в последнее воскресенье перед крестным ходом игумен Иоанн рассказал о планах строительства торгового центра у стен монастырских…
Конечно, из-за такой смелости, самоотверженности наместника монастыря врагов у него предостаточно. Не только невидимых, но и видимых. Они даже физически окружили монастырь с четырех сторон. На одном углу – контора реставраторов, которых игумен Иоанн в результате тяжелейшей многолетней борьбы все же выселил из ограды монастырской. Работали они халтурно, и он сначала пытался пробудить в них совесть, но они просто объявили ему открытую войну. На втором углу – редакция районной газеты, регулярно печатавшая очернительские статьи о жизни монастыря. С другой стороны – здание администрации района. Правда, теперь новый глава, и, похоже, администрация перестала быть врагом монахов Борисоглебских… На четвертом углу – небезызвестная «Ника».
Одно время враги настолько сильно осадили монастырь, что я даже написал в защиту его очерк «В Борисоглебском раю». Однако наши известные патриотические и даже православные издания испугались печатать его. Гражданское и духовное мужество проявили только сотрудник газеты «Десятина» Андрей Хвалин и Сергей Григорьев, редактор журнала «Русская линия» в Интернете. Позднее Григорьев опубликовал подборку материалов «Война в Борисоглебе», в которой дал не только мой очерк и мое письмо к православной общественности «Обороним Борисоглебский монастырь…», но и статьи наших противников.
Конечно, не мои литературные писания остановили врагов монастыря и даже не то, что война в Борисоглебе стала широко известна у нас в России и даже за рубежом, но, самое главное, молитвенная поддержка таких столпов Православия, как архимандрит Афанасий из Троице-Сергиевой лавры. В самые критические моменты Борисоглебской войны он приезжал в монастырь и жил неделями. Он вроде бы любил в пруду рыбку ловить, а на самом деле сразу по приезде отец Афанасий спрашивал: «Ну что, Иван, крысы еще не ушли?» Имея в виду реставраторов и иже с ними. Нет, не рыбку приезжал ловить архимандрит Афанасий, а защищать монастырь от крыс. И защитил. Да и как он мог не защитить… этот дивный Божий старец… 45 лет простоял отец Афанасий у раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли Русской. В лавре про него говорили: «Сам преподобный его избрал за веру его и простоту». Отец Афанасий обладал даром прозорливости. В августе 2001 года, сидя в нашем монастыре за трапезой, в никчемном, казалось бы, разговоре вдруг ни с того ни с сего вспомнили о небоскребах Манхэттена. Отец Афанасий, обычно не принимавший участия в застольных разговорах, вдруг сказал: «Рухнут». Один из гостей, очень начитанный человек, деликатно объяснил ему, что в 1994 году уже была попытка взорвать их, и тогда архитектор, их проектировавший, с гордостью заявил: «Если даже самолет на них упадет – они не рухнут». Как всякий мудрый человек, отец Афанасий выслушал до конца и с полным безразличием подтвердил: «Вот самолет упадет – и рухнут». Потом разговор перешел на другую тему, однако отец Афанасий снова пробурчал: «Возгордились. Вавилон. Рухнут». И энергично махнул рукой.
Вспомнили мы об этом разговоре через месяц, в сентябре, когда самолеты упали – и небоскребы рухнули…
И за год он предсказал время своей смерти. Были они с игуменом Иоанном в гостях у иконописцев Алдошиных под лаврой. День стоял солнечный-солнечный, и сидели прямо в саду под яблонями. Хозяйка, угощавшая чаем, извинилась, что не может яблоками угостить: мол, не уродились нынче. Отец Афанасий ласково посмотрел на нее и радостно сказал: «На будущий год антоновкой меня поминать будете». Все, конечно, попытались перевести разговор в другое русло, но отец Афанасий еще раз повторил: «На будущий год антоновкой меня поминать будете». И умер через год на Воздвиженье. И антоновки был урожай великий…
Он дружил с отцом Кириллом (Павловым) и, когда ездил к нему, часто брал с собой отца Иоанна. Очень он его любил. Я не раз слышал, как отец Афанасий говорил людям: «Иванушке помогай». А сам теперь и из Царства Небесного помогает.
***
Из Троицы на Бору уже уходить не хочется, но вот движемся крайними улицами Борисоглеба. Возле домов, возле дороги стоят люди. Вдруг одна женщина так и кинулась ко мне. Гляжу: тетя Лена, мать моего умершего друга поэта Кости Васильева. Со слезами обняла, расцеловала, словно уходящего на войну солдата, защитника Родины. Так я тогда почувствовал. Отец Иоанн тут как тут – окропил ее святой водой с головы до ног. Она плакала, и у меня слезы потекли. Раньше тетя Лена скептически к вере в Бога относилась. Да и Костя все упирался, так и умер некрещеным. Отец же Иоанн не благословил меня молиться за Костю после его смерти: пусть мать и родные молятся. Я тогда очень опечалился, даже страдал, но потом понял, что и на этот раз батюшка поступил мудро. С большим трудом я убедил тетю Лену, что для Кости теперь важнее всего, даже важнее его стихов, ее молитвы о нем. Если бы батюшка благословил меня молиться за Костю, то я бы, конечно, не стал уговаривать тетю Лену. Она же, хоть и твердила свое, что молиться не умеет, да и в Бога не очень-то верит, все же согласилась каждый день читать по три заупокойные молитвы о Косте. Когда я приходил, она честно признавалась, что читает молитвы с полным равнодушием: дескать, толку-то от такого чтения все равно не будет; но я ей опять то же самое: что Бог-то все слова сказанные слышит – потому важно, чтобы они были сказаны, а там всё устроится как надо, и мы только на том свете узнаем, много или мало было от них пользы. А потом приснился ей сон, что Костя пришел к ней, дал исписанный лист бумаги и попросил отнести его в монастырь. Я растолковал тете Лене этот сон так: дескать, Костя тоже просит ее отмаливать его грехи. На листе его покаяние, и она своими молитвами донесет его Богу. А почему он ее об этом просит? Потому что на том свете каяться уже поздно, а молитва матери самая сильная – она со дна моря достанет, а может, и со дна ада…
И вот тетя Лена три года молится за сына каждый день и теперь сама говорит мне об этом при встрече и уже не сомневается в полезности своих молитв. Вот пришла крестный ход встречать со слезами! Не знаю, где и как Костя на том свете, но что ему теперь там намного легче – это несомненно.
Борисоглеб остался за спиной. Идем по лугу берегом нашей прекрасной извилистой реки Устье. У Селища перекинут через реку узкий дощатый мостик. Довольно высоко. Внизу молодой парень на лодке дежурит на всякий случай. Сверху-то не сразу человека узнаешь. Гляжу: это Саша Б. Несколько лет назад его сбила машина. Врачи сказали, что даже везти его никуда нельзя, да и бесполезно. Но отец Саши не согласился с этим приговором, переселился жить в больницу – взялся выносить за неходячими больными судна, всячески всем помогать. Отец Иоанн с братией тоже не забывали Сашу в своих молитвах. И Господь помиловал мальчика. К удивлению врачей, он выздоровел, закончил институт. Вот только ноги его с тех пор ходят не совсем ладно, и он приплыл от своего дома на лодке против течения километра два. Не так это легко. Дежурство на переправе – это его, Сашино, послушание.
После Селища дорога по асфальту. И все сосновые боры. Красота. Справа в деревне Кишкино дома зажиточные. Алешка наш всё показывает, в каком хотел бы жить. Конечно, в самых богатых. Я ему пеняю: «Эх ты, наш-то домик, конечно, скромный, незавидный, зато родной…» Не знаю, понимает ли он меня, но запомнит мои слова наверняка. Хотя тут же снова указывает на понравившийся ему теремок. И вдруг я понял, что это для меня такие дома – богатые, а для Алешки пока не существует богатства, бедности, а вот красота для него уже существует. Не потому что богато, а потому что красиво. Зато абсолютно еще не понимает, что цветы живые, как мы. Сколько я ему ни объясняю, как ни сержусь на него, он срывает их или же, походя, не останавливаясь, сжимает кулак вокруг стебля и пропускает. Остается голая мертвая палка вместо живого прекрасного цветка. Потом вдруг заныл, что босиком хочет идти. Я ему показал на мужчину в высоких военных башмаках. Вот, дяденька боец какой. Хотя про себя, видя, как он осторожно ставит ноги, словно они в деревянных колодках, я сомневался, годится ли такая обувь для нелегкого большого пути. Потом в Павловом селе оказалось, что «боец» такие мозоли натер, что ходил босиком, и на другой день я увидел его в легких кроссовках. После отец Сергий, иеромонах Борисоглебского монастыря, расскажет, что, вдохновившись проповедью отца Иоанна, взял и надел совершенно новые ботинки – до революции многие люди давали обет пройти крестный ход с тяжестями, в неудобной обуви, терпели неудобства во благо своей душе. И в Павловом селе отец Сергий тоже спекся, как тот мужчина в военных ботинках. Но, думаю, что всё же и не так, как тот мужчина… Тот-то по своей глупости пострадал, сам в этом признался; а отец Сергий – ради Бога, вот только сил не хватило.
С Алешкой все никак сладу нету, и я пеняю Марине, что он «натуапсился»: мол, это плоды их приморского отдыха в городе Туапсе – избаловала она его там.
Вот наконец один-другой воскликнул радостно, показывая на далекие купола храма в Павловом селе. Мы с Алешкой прибавили шагу. Обгоняем высокого прихрамывающего мужчину, и вдруг он говорит нам вслед: «Вроде бы всего одну букву люди потеряли, а на самом деле Бога потеряли. Ведь было не просто бессмысленное “спасибо”, а “Спаси Бог”». Это строчки из одного моего очерка. Обернулся я и глазам не поверил – Санька М., старый мой товарищ, с которым уже лет десять не виделись. Раньше он таким язычником был!.. И вдруг вот он в крестном ходе идет вместе с нами! Чудо! А у него одна нога с детства не гнется да еще мерцательная аритмия, оказывается, завелась. Я про себя подумал: «Ничего, хоть один день, да прошел – все равно пользы много будет». А Санька потом еще два дня одолел. Перед Павловым распрощались с ним: Алешке вдруг захотелось побыстрее идти. Пошли мы вперед, а Санька опять нам вслед: «Эх, Серега, сейчас бы, как тот твой тракторист, рухнуть прямо с высокого берега в реку». Это он вспомнил из моего очерка «Борисоглебское лето». Такой был праздник, что Санька идет с нами…
Вот она, долгожданная чудесная березовая роща на пригорке. Высокая трава, ажурные папоротники. Несколько мужчин сидят на мостках на пруду, как воины на привале. Ботинки сняли, натруженные ноги в воду. Блаженствуют. Рядом белые гуси важно плавают. В одном мужчине в камуфляже узнаю Сашу, военного человека, по первому слову игумена Иоанна всегда встающего в первые ряды бойцов с «крысами». Он радостно машет рукой: «Сережа, иди к нам». В ответ на его ласку поднимаю руку. Слава Богу, первый день победили. Мы в Павловом селе.
***
Нина увезла нас из Павлова. Дома на ходу выпил чаю с сухарем и за руль своей «Оки». Голубичка-то в Павловом осталась. Приехал, ищу: нигде ее нету. Найти не так-то просто – больше двух тысяч человек идет. В храм, конечно, войти немыслимо. Одни стоят у входа, вторые сидят на лавках подле храма, третьи легли прямо на траву вдоль ограды церковной, четвертые – в огромных солдатских палатках, раскинутых на лугу.
Конечно, я почти сразу знал, что Голубичка скорее всего умудрилась в храм на всенощную проникнуть, но на всякий случай, да и чтобы поглядеть на людей, обошел все места в Павловом. Даже у колодца побывал. Снова подошел к храму, и помазанье началось – люди стали выходить. Тут уж и я сумел втиснуться в храм. Помазали мне крестообразно лоб, растер я масло по всему лицу, по болящей моей шее. Гляжу: счастливая наша Голубичка приткнулась в уголку, видимо надеясь всю всенощную отстоять, но я неумолим, завтра рано вставать, и она смиренно, хоть и не без вздоха, вышла вслед за мной.
Поужинали вареной картошкой с хлебом. Так вкусно, будто в лесу у костра. Стали устраиваться по своим местам, а я вышел во двор. В детстве, в счастливые дни своей жизни, всегда боялся быстро заснуть, а если всё же засыпал от усталости, то утром плакал от горя, что столько счастья проспал…
Время 10 часов вечера, а совсем светло. Кузнечики, сверчки так стрекочут-свиристят, так их много, что кажется, будто они везде: не только на земле, на деревьях, даже в воздухе вокруг. Все пронизано ими. Вспомнилось: в армии, в учебке в Анапе, шли мы ночью походом мимо спящих станиц. И так же воздух был пронизан цикадами. И в одном доме горел в окне свет, и девушка, стоя на коленках на стуле, опершись локтями на стол, читала книгу. Так было грустно сознавать, что не узнаю ее никогда. Ведь это чудесная девушка – кто же еще будет глухой ночью читать книгу! И сегодня мне жаль, что я так и не узнал ее… Та южная ночь была темная-темная, даже белые мазаные домики еле виднелись, а у нас здесь ночи светлые-светлые…
Наконец решил ложиться, а то утром не встать. Но так неохота было уходить со двора. В светелке душно, мошкара мелкая, надоедная. Не столько кусает, сколько пугает и мешает заснуть. Да еще «мои вериги» – пуховое одеяло. Но проснулся бодрый, полный сил, как в молодости. Отец Юлиан с отцом Борисом, насельники нашего монастыря Борисоглебского, наши старые друзья, спали в эту ночь на полу в храме Павлова села. Замерзли. Отец Юлиан сообразил, принес из алтаря ковер. Только заснули – отец Иоанн разбудил входные молитвы читать. Сам он в эту первую ночь крестного хода совсем не спал – ездил на «уазике» вперед до самого Кондакова, еще раз проверял дорогу: можно ли по ней людям пройти. Таких дождей, как в это лето, давно не было.
Однако вскоре хорошее утреннее настроение испарилось: многолюдье, суета. Да еще Голубичка всё вслух сокрушается, что опять на литургию опаздываем. Так и подмывало сказать ей: «Любишь ты всем о смирении напоминать – так вот теперь сама смиряйся». Но молчу. Правда, когда она поделилась радостью, что у нее иконка Тихвинской Божией Матери замироточила, я всё же не сдержался, кинул ложку дегтя в ее бочку с медом: мол, особо не радуйся – это может быть и к скорбям. Рассказал, как однажды поделился вот так же радостью с отцом Иоанном, что у нашего доброго знакомого дома иконы мироточат. Хотелось мне подчеркнуть духовность нашего знакомого. А отец Иоанн неожиданно опечалился: «Это к скорбям». Я возразил: дескать, знакомый уже столько скорбей в жизни перенес, потому ему-то это скорее в награду. Отец Иоанн не стал спорить, но и не отказался от своих слов. Вскоре у нашего знакомого умерла мать, потом жена и сам он крепко переболел…
Так что послал Бог нас Голубичке для смирения, а то она нам все уши прожужжала про Афонское подворье, про прозорливых монахов. За глаза так и зовем ее «Афонское подворье». Но все же она и Голубичка, благодаря которой мы на всех крестных ходах не пропустили ни одну литургию, ни разу не отстали после ночевки. Так что и она для нас промыслительна.
Пути Господни неисповедимы… В июле 1998 года без приглашения, как снег на голову посреди лета, свалилась ко мне в Старово-Смолино Маринина студентка Даша Растеряша из одного богословского института. Деликатно спросил ее о цели приезда. Она сообщила, что прибыла на крестный ход. Честно сказать, у меня аж в глазах потемнело: до крестного хода еще чуть не месяц. Да, к нам немало людей приезжают на крестный ход, но они за день до начала и потом сразу уезжают. Настроение мое упало – я никак не планировал жить с посторонним человеком целый месяц. Но не выгонять же. Решил вытерпеть. Однако легко сказать. Оказалось, Даша Растеряша совсем не приспособлена к жизни и ничего совсем не умеет. Ни сварить, ни постирать. Пришлось мне обслуживать троих: себя, Малыша и Дашу Растеряшу. А у нее еще и характерец оказался капризный, вспыльчивый. Да еще она частенько любила цитировать апостола Павла (лучше бы молчала – легче бы мне было): «Носите тяготы друг друга». Еле я сдерживался, чтобы не сказать: носите, братцы православные, чужие тяготы, а не свои на других наваливайте. А ты еще, наваливая свои, явно даешь понять, что другие обязаны нести твои тяготы. Жила целый месяц на 150 рублей, а когда я однажды заикнулся: мол, деньги у нас кончились, – то она, не моргнув глазом, сердито ответила, что ей надо требы заказывать, подарки родным купить. Вышло, что я должен ее кормить, а она этого даже не поняла…
И уж совсем невмоготу становилось терпеть, когда Даша этак угрожающе проговаривала, что она вообще-то не к нам приехала, а в монастырь, на крестный ход. Я поскорее выходил из дома, чтобы не сказать: «Ну, раз в монастырь, то иди в гостиницу или на постой к кому из прихожан, а нам постояльцы не нужны». Действительно, у нас даже друзья редко бывают – понимают, что при моей литературной работе лучше всего жить в деревне вдвоем с моим Малышом. Только Вовка Лобанов гостил два лета месяца по полтора. Так ему, бедному, жить негде было и надо было душу к кому-то приткнуть.
Но постепенно Даша Растеряша научилась готовить вермишель, картошку, яичницу, стирать белье, мыть в доме полы. И, главное, она стала для меня удерживающей силой. Не пив много лет, я тогда начал выпивать. Если бы не Даша Растеряша, перед которой мне было стыдно являться пьяным, то я бы, наверное, запил, не приведи Бог. Когда она уехала, я так однажды напился, что чуть не умер, и оказался в больнице Борисоглебской. Но случилось это уже осенью, после крестного хода, и монахи Борисоглебские отмолили меня. Тогда-то я наконец понял, что Даша Растеряша была послана мне затем, чтобы я не погиб окончательно.
Перед ее отъездом я еще этого не понимал и очень обиделся на нее. Даша, нарисовав для мамы на большом листе бумаги всю свою Борисоглебскую жизнь: в одном квадратике – монастырь, в другом – крестный ход, в третьем – келью преподобного Иринарха, вдруг спросила: «Сергей Антонович, у меня еще один кадрик остался, что в нем нарисовать?» Так мне стало больно. Что тебе еще нарисовать?! Милая ты моя девочка, как же так?! Конечно, наш дом. Столько ты в нем прожила… Меня просто сразила такая неблагодарность. Но снова я промолчал, а вроде бы в шутку предложил: «Нарисуй Малыша». Даша много с ним возилась и, как мне показалось, полюбила его. Даша, к сожалению, ничего не поняла, поджала губы и нарисовала еще один кадрик крестного хода. Как же, будет она, православная девочка, какого-то пса рисовать…
В общем, все в Даше как-то смешалось. Конечно, она приехала ко мне по Промыслу Божиему, но все-таки отказалась рисовать наш незавидный домик и Малыша в окне, всегда ждущего нас… И ее он тоже ждал. Так и вижу: Малыш лежит на моем столе у окна, грустно глядит на улицу: не покажется ли кто из любимых? Вдруг, словно не веря своим глазам, вытягивает шею, приподнимается, приподнимается. В следующую секунду спрыгивает со стола и, опережая свой лай-плач, бежит к двери, с разбегу распахивает ее лапами и вмиг оказывается возле калитки…
Шесть лет спустя я вспоминаю только светлое. Вспоминаю, как ездили с Дашей и с Людмилой, нашей знакомой из Кондакова, в храм села Губычева. По просьбе Людмилы отслужили на кладбище заупокойную литию – у нее много близких на этом кладбище похоронено. Даша поет в церковном хоре и хорошо знает службы. Она пела, а я в основном «аминил». На всю жизнь запомнились красные, как кровь, ягоды на кустах. Может быть, их и не было, но так они и встают перед глазами. Было тогда на душе печально, но и очень светло от нашего пения. На это кладбище, судя по траве в рост человека, уже давно никто не приходит, а мы – литию спели. Вот оно как… Нашла Даша в храме деревянное крыло ангела с иконостаса и отдала потом отцу Иоанну… Да, прекрасное было тогда у нас лето с Дашей; жаль, больше никогда оно не повторится. И слава Богу, что оно было, что Даша взяла и вдруг свалилась ко мне как снег на голову, и прожили мы с ней чудесное лето. Уверен, сегодня бы Даша нарисовала наш дом, и я бы не оказался таким неблагодарным. Даша меня спасла, а я долго всем жаловался, какая она бессердечная – отказалась нарисовать Малыша…
Мы с Дашей переписываемся, и я попросил у нее прощения. Хотя не преминул сказать, что тогда-то у меня она и подготовилась к семейной жизни со своим Вовкой. У Даши теперь двое детей. Одного зовут, как меня, Сережей, но уж тут-то я не питаю ни малейших иллюзий и не претендую, что назван он в честь меня. Мальчик родился почти в день преподобного Сергия Радонежского. Хотя, хотя… все ведь промыслительно… и меня всё же тоже зовут Сергеем…
У Даши-то я прощения попросил, а вот у Вовки Лобанова не успел. Умер он. Когда Вовка жил у меня два лета, я тоже все был недоволен им. Однажды он сказал, что на нашей реке Устье три вида чаек, так я даже в этом не согласился с ним: мол, гораздо больше. Вовка не стал спорить, а я потом убедился в его правоте. На входе в калитку он вбил деревянной кувалдой, сделанной из чурки, принесенные с поля камни. Стало что-то вроде булыжной мостовой. Немало он на это сил, времени потратил, но я не раз ворчал, что это совсем ни к чему, что в русских деревнях никто так не делает. Теперь вижу: для меня это очень удобно, и всякий раз, входя в калитку, я вспоминаю Вовку, и становится мне стыдно до слез. Но не у кого теперь прощения просить.
***
Так вот, Даша Растеряша, которую под конец я уже звал «мое подружье», уехала, а я оказался на больничной койке и сразу вспомнил, как на Преображение отец Иоанн на проповеди сказал: «Этот Свет Фаворский от апостолов передан всем священникам. В том числе и мне грешному. И окружающие могут этот свет усиливать, а могут эту “лампочку” загаживать». Почувствовал я себя именно такой мухой, загаживающей свет «фаворских лампочек», что это про меня тогда сказал отец Иоанн. Выйдя из больницы, покаялся перед ним и, стараясь хоть немножко оправдаться, показал на маленького ребенка, бегающего по храму: «Окрестили бы меня в детстве – не нагрешил бы я столько». Отец Иоанн с виноватой улыбкой поправил: «Нет… Ближе к Богу бы были». Рассказал про своего знакомого, которого бабушка в детстве водила в храм по воскресеньям причащаться. Знакомый потом стал выпивать, но и лежа в канаве он стонал: «Господи, помилуй…» А что бы мы говорили в таком состоянии?
С тех пор я, слава Богу, не пью, не курю. Правда, когда люди хвалят меня: дескать, вот какой ты молодец, я про себя думаю (даже иногда говорить это стал), мол, я молодец-то поневоле: не курю – потому что и без курева едва дышу; не пью – потому что и без водки голова постоянно болит, как с похмелья. Хотя, слава Богу, хоть так Он меня от грехов избавляет.
***
Наконец Нина привезла нас в Павлово село. Хоть к Символу веры успели. После литургии вышел из храма. На скамье сидит старый-престарый московский знакомый Борис, с которым вместе начинали литературное поприще. Он сразу сообщил: «Нынче из моих попутчиков никто не идет». Вроде бы посожалел, но и прозвучало: вот такой я крепкий. Он совсем недавно окрестился, начал в храм ходить, и я перевел разговор на другую тему: «Что сейчас пишешь?» Борис с каким-то напряжением, опять чуть ли не геройски: «Я давно не пишу. Надоело сочинять». Борис когда-то очень талантливо писал; правда, мне всегда не хватало в его писаниях сердечного чувства, и я искренне сказал: «Если душа просит – пиши. А не просит – не пиши». Не найдя, что возразить, Борис встал и ушел. В Центральном доме литераторов у большого зеркала в фойе он всегда причесывался энергично, уверенно. Быстро, словно играя на губной гармошке залихватскую песню, продувал расческу. Небрежно кидал взгляд вокруг. И во всем было видно, ясно читалось: я-то тут законно, я один из лучших писателей сегодня, а вы-то чего здесь делаете?..
Но все-таки Бориса я уважаю. Когда у нас многие в одночасье заделались демократами, торгашами – он, не стесняясь выглядеть отсталым, защищал советскую власть. Мол, при ней к людям относились по-человечески. Человек не был ветошкой. Рассказывал, как не мог уволить с работы самого горького пьяницу, как вышестоящие говорили: «А куда ему потом деться? У него семья. Нет, так нельзя. Ты работай с ним…» Потом Борис стал другом моего друга Юрки, а мы с Юркой разошлись. Я поверил в Бога, а Юрка совсем заблудился, стал сильно пить и погиб при странных обстоятельствах, в каких обычно и погибают такие люди… Борис же пришел к Богу, и мы с ним теперь вместе в одном крестном ходе идем!
После заупокойной литии на кладбище покинули Павлово село. Прошли с километр по асфальту и свернули в лес направо. Дороги, собственно, нет. Размытые дождями дорожные колеи, наполненные водой. Идем сбоку, по закрайке. По одному. Скользко, но никто не падает. Алешка, сам утром попросивший, чтобы ему дали рюкзачок, – теперь ноет, чтобы мы забрали его. Бабушка, конечно, уже готова взять, но я неумолим: напросился – неси.
Оглядываюсь: кто там сзади меня? Виктор! Благодаря этому человеку я пришел к Богу, но мы с ним не перемолвились даже одним словом, хотя он в крестных ходах наших не первый год идет. Вначале еще иногда взглядывали друг на друга, а потом перестали…
Много-много лет назад я не только не верил в Бога, но и вел жизнь самую грешную. Самое страшное, что я пил запоями. Ну а где вино – там и грехи. Однажды допился до белой горячки, но и это не вразумило. Правда, наконец понял, что здоровье у меня отнюдь не богатырское, – стал осторожнее: когда начинал видеть разбегающихся по углам «тараканов», сразу прекращал пить. Однажды «тараканы» уже побежали от меня, но я решил сегодня еще погулять, а остановиться завтра. Поехал к Виктору, там мы еще выпили, и мозги мои поехали… Не поняв, что я заболел, хозяева указали мне на дверь. Выйдя из дома на дорогу, я почувствовал, что больше не могу жить на свете. Поехал напоследок к жене – прощения за все попросить. Оказалось – меня не было дома несколько дней, а пил я недели две без просыпа – она ушла. Написав, что устала так жить и чтобы я не искал ее. Это только укрепило в принятом решении. Я ходил через дороги прямо среди несущихся машин, лез во все уличные драки, но хоть бы царапнуло меня. Понял я, что придется сделать это самому. Пошел к реке. Проходя мимо православного храма, глянул на дверь. Прежде я не раз пытался зайти сюда, но либо храм был на замке, либо много было народу – а мне хотелось поговорить со священником с глазу на глаз. На этот раз двери были открыты. «Поздно», – подумал я, но все же остановился. В душе боролись два голоса. Один почти кричал: иди к реке – лучше теперь всё равно не станет; другой негромко успокаивал: зайди в храм, хуже от этого не будет. «И то верно, хуже не будет, хуже уже некуда», – согласился я. Вошел. Чудеса – ни одного человека, только священник. Видимо, на лице у меня было всё написано – он сам обратился ко мне: «Чем могу вам помочь?» Я обычно плохо запоминаю имена, но имя священника не забуду даже на том свете. Его зовут отец Петр. Я посмотрел ему в глаза и увидел, что он искренне хочет помочь мне. И я рассказал мою грешную непутную жизнь. И ни один человек в это время не зашел в храм! А если бы зашел, то я бы, наверное, не смог так откровенно все рассказать. Закончил и признался, что иду покончить с собой. И взглянул на него: мол, правильно я делаю?! «Благословения» на смерть попросил. Отец Петр неожиданно улыбнулся ласково-ласково: «Милый вы мой. Выкиньте это из головы. Это самый страшный смертный грех. Его искупить невозможно. Это иудин грех. Вы еще будете одним из счастливейших людей на земле. У вас еще вся жизнь впереди. Так заживете, что другие будут на вас радоваться. Только надо вам окреститься». От таких чудных слов я вдруг почувствовал себя совершенно здоровым, свободным, будто с меня сняли сеть, из которой я никак не мог выпутаться сам. Но всё же переспросил: «Да разве я, такой грешный человек, имею право жить на земле? Тем более быть счастливым?» Отец Петр уверенно подтвердил: «Конечно, и будете. С Богом всё возможно». Он показал на стоявший на столе радиоприемник: «Вы сейчас как вот эта машина. Много в ней всего есть, но пока она в сеть не включена – это просто металл. Пока вы не окреститесь, вы тоже не подключены…»
К реке я не пошел, а отправился искать жену, твердо решив с этого дня водку больше не пить и обязательно окреститься. И не пил очень долго, до того лета, как приехала ко мне Даша Растеряша. И в Бога уверовал сразу после разговора с отцом Петром, и в храм начал ходить. Много раз собирался пойти к Виктору, но так и не собрался. Боялся, что он, безбожный тогда человек, не поверит мне, не поймет меня и мне снова станет невмоготу жить на белом свете, а ведь счастье, как сказал отец Петр, еще возможно и для меня.
И вдруг через много-много лет на литургии в Борисоглебском монастыре перед началом крестного хода в Кондаково на колодчик преподобного Иринарха я повернул голову влево и увидал рядом Виктора. Конечно, сердце больно застучало в груди, но я достоял литургию почти спокойно. Потом пошел к своему духовнику. Он неожиданно сказал, что подходить к Виктору объясняться не нужно. Я забыл спросить, что делать, если Виктор сам подойдет, и после почему-то всё откладывал, откладывал этот вопрос. Так до сих пор и не спросил, да и незачем оказалось – Виктор не подошел. Сегодня, кажется, начинаю понимать, почему батюшка не благословил подойти… И, как мне думается, я теперь понял, почему в моей жизни была та кошмарная ночь. Понял опять же благодаря своему духовнику отцу Иоанну.
Года три назад жили мы вчетвером в нашем деревенском доме в Старове-Смолине. Я, Марина, внук Алешка и Малыш. Очень нервно, тяжело жили. Однажды так разругались с женой, что я выбежал из дома, сел в машину и поехал куда глаза глядят. В дороге остыл и направился в монастырь. Отец Иоанн, конечно, успокоил, призвал к миру… Под самый конец я облегченно сказал, что теперь у меня силы есть и обида на Марину прошла, а то уж я ее к лукавому послал. Батюшка даже в лице изменился: «Да вы что! Это же может страшные последствия иметь!» Сразу меня в келью на исповедь, потом молебен с ним отслужили. С тех пор я понял, как страшно послать человека к лукавому, – а люди это сплошь да рядом делают, а потом спрашивают, почему мы так плохо живем… Даже матери детей посылают. Не говорю уж о ставшем традицией пожелании «Ни пуха, ни пера» и страшном ответе «К черту». Повязаны люди бесами со всех сторон…
На следующий год летом опять мы вчетвером в деревне жили. Опять ссора, опять я разгневался и твердо решил отправить Марину с Алешкой в Москву. Даже успокоился от этого и вдруг, совсем на ровном месте, опять послал Марину к лукашиной матери. И так испугался, что тотчас поспешил в монастырь. Но отец Иоанн на этот раз не встревожился, а успокоил: «Это по Божиему попущению». Я понял, что снова он прав: если бы я не послал Марину, то не поехал бы к нему, а отвез бы моих на вокзал и отправил в Москву.
Думаю, что и тот кошмар произошел по Божиему попущению. Никогда бы я сам к вере не пришел. Да и Виктор наверняка тоже после той ночи к Богу обратился… Он тоже пил, жил непутно, и в семье у него было неладно. А теперь в крестном ходе идет, и по всему видно, что он человек глубоко воцерковленный. Слава Тебе, Господи! Но как это страшно – приходить к Богу по Его попущению. Лучше уж по доброй воле…
***
Наконец мы вышли из леса. Виктор обогнал меня. Открылись безкрайние просторы. Такие чудесные дали. Всё в цветах. Русское разнотравье. Прямо у тропы малина растет. Конечно, городские женщины, дети набросились на нее. Даже один мужчина не выдержал, прыгнул с тропинки с криком: «Вам медведи нужны?»
Такая красотища, что, наверное, многие потом именно эти разнотравные просторы перед Ильинским вспоминали, когда я спрашивал: «Что больше всего запомнилось в крестном ходе?» И все отвечали протяжно: «Поля, леса…» Я спрашивал: «А что еще?» Будто не слыша, они счастливо повторяли: «Поля, леса…» Больше я не переспрашивал – мне и самому запали в душу: поля, леса…
В Ильинском села больше нет, один разоренный храм остался. Здесь такая усталость навалилась, что мы просто рухнули в высоченную траву. Возле заброшенных храмов она всегда такая большая вырастает, прямо как кусты. И всегда здесь чудятся красные, как кровь, ягоды…
С огромным наслаждением поели хлеба, запили сладкой водицей. Господи, как чудесна жизнь!
После Ильинского солнце так припекло, что хоть совсем раздевайся. Во рту пересохло. Гляжу: впереди на дороге монастырский «уазик», и Максим большим ковшом воду разливает. Он раньше никак не поддавался нашим уговорам переехать к матери в Борисоглеб, поближе к монастырю, непреклонно твердил, что никогда свою родину Саратов не покинет. И вдруг я узнал от его сестры, что Максим приехал насовсем, и вот он – водовоз в крестном ходе.
Скорее я к машине, а там уже очередь жаждущих. Мне же никак от моих отстать нельзя: без меня Алешка сразу верх над бабушкой возьмет. Максим такой чистый и, конечно, перестанет меня уважать, если я «по знакомству» попрошусь без очереди. Стою в растерянности, а мои уже вперед ушли. И вдруг я понял, что делать. Высоко над головой поднял бутылку и громко, чтоб все слышали, направился прямо к раздатчику воды: «Блат, блат, блат…» Все с улыбкой пропускали меня, и Максим понял, просветлел лицом и налил мне аж две бутылки полуторалитровых.
Дорога полевая, неровная, а супруги Ш. с тремя маленькими детьми не побоялись идти в крестном ходе! А началось с того, что игумен Иоанн сказал Елене Ш., когда она хотела купить Евангелие, мол, не покупай, тебе скоро жених подарит. Елена недоверчиво усмехнулась, но вскоре жених действительно появился, и первым его подарком будущей жене было Евангелие…
Выбрались всё же на дорогу, бывшую когда-то асфальтовой. Очень давно. Наверное, еще при социализме. Слева из леса вышли наши женщины. У всех в кульках, в руках, в платках – грибы. Давай они радоваться, смотреть, кто больше собрал. Глядя на их счастливые лица, вспомнил я, как думал про себя, мол, есть крестоходцы, а еще есть ягодники, «медведи», туристы; и даже вслух подосадовал на себя: «Ишь ты, какой крестоходец нашелся!»
***
В поселке «Красный Октябрь» жара достигла просто египетского градуса. Мы с отцом Юлианом, с четой Савиных легли прямо под березами за дорогой. Подошла знакомая: «Сергей Антонович, не могу вам не сказать. Впереди меня шли две женщины и уж так здорово они о вашей книге говорили». Я поправил, что книга не моя – там несколько авторов, но она возразила: «Говорили-то они именно о вашем очерке “Борисоглебское лето”». Вспомнил, как во дворе монастыря одна питерская знакомая тихо промолвила: «Ваши книги летом пахнут». В нашем кругу бытует мнение, что благодарить людей за их труд не надо, а то, дескать, венцы отнимешь. Потому редко от кого доброе словечко услышишь. А я думаю своим худым умишком так: конечно, расточать неиссякаемые похвалы не нужно и вредно, но по человечеству поддержать, вдохновить на дальнейшие нелегкие труды даже необходимо. Свои литературные писания я считаю как бы построенными мной домами. А читатели – это жильцы. И мне всегда хочется знать, как им живется в моих домах: тепло, уютно или холодно, тоскливо. Имею ли я право «дома» строить или же это не мое дело…
С другой стороны дороги слышно, как молебен идет. Решил я постоять немного, а то всё отдыхаю на травке. Мои спутники устало кинули вслед: «Сережа, крикни, когда пойдут». Вскоре я позвал их: «Эй, вы, под березой, пошли». Тут Нина рядом оказалась: «Папа, может, какие вещи отдашь? Я-то на машине…» Обрадовался такому ее вниманию и отдал оба зонтика, которые зря нес уже два дня. Так захотелось хоть немного пройти рядом с отцом Иоанном. Люблю с ним рядом быть. Марина согласно кивнула, мол, иди, за нас не беспокойся. Я встал по левую руку батюшки, а по правую Маша Мартышина с чашей в руках со святой водой. Сзади нас отец Исаия с канистрой – доливать чашу. Я-то налегке с пустыми руками; и проходящие с улыбкой: «Сергей Антонович, рядом с благодатью». Понимая их ласку ко мне, к батюшке, я им тем же макаром: «Да, вот такой я хитрец». Возле дороги группами стоят люди. Отец Иоанн с улыбкой щедро кропит их святой водой. Одни плачут от счастья, другие смеются. Кто идет навстречу, к тем батюшка сам спешит. И всем он непременно говорит: «Завтра в Ивановском освящение храма, а послезавтра – литургия в Кондакове». Все отвечают, что знают. Отец Иоанн часто оглядывается назад и счастливо произносит: «Мы далеко не последними идем». Думаю: сколько же батюшка-то крестных ходов прошел – он то и дело спешит в сторону окроплять встречающих, возвращается назад подкрепить силы отстающим, потом устремляется вперед. Уж три-то крестных хода он за один точно проходит. И все кропит-кропит людей – как только рука не отнимется. А у него такое здоровье слабое, что однажды владыка Евстафий, дожидаясь в Кондаково крестный ход, очень разволновался и даже промолвил: «Может, его (отца Иоанна) уже на руках несут…»
Глядя на радостные лица вдоль дороги, вспоминаю, как батюшка рассказывал, что жители сел и деревень, через которые идет крестный ход, еще долго вечерами слышат пение молитв. Умом понимают, что этого быть не может, но открывают окна, форточки – пение еще громче. Выходят, счастливые, встречать – никого нет. И весь год ждут они, когда к ним придет крестный ход. А сами крестоходцы говорят: «Для нас теперь год начинается и заканчивается крестным ходом».
Перед Алешкиным дорога пошла в гору. Маша с батюшкой вспомнили, как раньше, когда еще два дня крестный ход был, приходили сюда в темноте при звездах и луне. Так захотелось присоединиться к их радости, и я сказал: «А мы вас ждали вон там на околице». Батюшка ласково кивнул, а я вспомнил, как ожидали мы крестный ход… Всегда ждешь, ждешь и начинаешь не на шутку волноваться: ведь давным-давно должны прийти. И когда уже изнеможешь от ожидания, вдруг над травой покажется фонарь, который всегда несет брат Глеб. Но еще долго не видно ни брата Глеба, ни других крестоходцев. Фонарь, хоругви, иконы будто сами чудесным образом плывут над высокой травой. Но уже у всех вырывается из груди счастливое: «Идут, идут, идут…» И сердце тоже радостно кричит: «Идут, идут, идут…» Всегда здесь до слез. Счастье это для меня сравнимо разве что со счастьем, когда пришел я из армии. Вошел во двор, а там мама с младшей сестрой чистят картошку посреди двора. И рядом с ними белая сирень цвела… Мама потом: «Давай сегодня семьей посидим, а друзей завтра пригласишь». Согласно кивнул головой, но куда там: скоро невмоготу стало – три года не виделись. Бежал по улице родного села и видел, как из окон провожали глазами. Теперь понимаю, говорили: «Сережка Марии Георгиевны из армии вернулся. Наверное, к Мишке Оленникову побежал». И вспоминали, как сами пришли из армии такими же молодыми, красивыми, сильными… неужели это было когда-то…
Хотелось маме начать мою взрослую жизнь не бегом, но я не утерпел… И чуть потом не погиб «бегом». Теперь понимаю: послушался бы маму, посидел первый вечер семьей, и по-другому, по-мудрому, жизнь бы сразу наладилась. И не было бы многого, многого плохого, страшного… Но, слава Богу, что хоть кивнул сначала, и вот эта-то малость потом удержала, заставила остановиться, не дала пропасть окончательно. А было-то вроде бы все прекрасно: в нашем дворе цвела белая сирень, и я бежал к другу Мишке Оленникову…
Нет, всё же, когда ждали крестный ход, когда плыли над травой хоругви, была радость другая. Наверное, такая, будто не побежал к друзьям, а посидел с родными под белой сиренью, рассказал, как три года во сне и наяву мечтал: вот открою родную калитку… как три года не мог простить себе, что на проводах был всё с друзьями, что в последний момент, когда офицер скомандовал садиться в автобус, я, даже не обняв маму, схватил у нее рюкзак и побежал занимать место. Три года растерянная, несчастная мама стояла у меня перед глазами… И я думал: когда вернусь из армии, то уж так крепко обниму ее… И будет такая цветущая тишина, такая сирень в душе. Но вернулся и опять побежал к друзьям и потом толком не мог поговорить с мамой много-много лет… А тут, в ожидании крестного хода, было такое чувство, будто после долгой-долгой разлуки наконец-то встретился и целый вечер побыл с мамой…
В Алешкине дунул откуда-то ветер и чуть ли не с чистого неба хлынул ливень. На отца Иоанна женщины сразу надели плащ из прозрачной пленки. Он попробовал отказаться, но они и слушать его не стали. А мы в минуту промокли до нитки. Поленился я зонтики нести – получи. Главное, что ничуть они меня не обременяли, зачем отдал их Нине?.. Но батюшка, проходя рядом, улыбнулся ободряюще, и словно снова солнце из-за туч выглянуло. Я почувствовал, что не простужусь и всё будет замечательно. Насквозь промокшие, но счастливые приехали в наше Старово. Переоделся я, сел в свою красненькую «Оку» и – за Голубичкой в Ивановское.
Здесь храм свежесрубленный. Чуть не до купола убран полевыми цветами – женщины постарались от души. Конечно, всем в него никак не войти – волей-неволей большая часть на облака любуется. Они от закатных лучей в золотой кайме, словно в нимбах.
Срубили этот храм благодаря неутомимому подвижнику – директору Ивановской школы Владимиру Мартышину. Счастливый он человек: не многим в жизни дано школу создать и храм поставить, а Мартышину дано. А он еще столько монастырю Борисоглебскому помогает. Володя из тех русских людей, на которых сколько ни нагрузи – будет везти как ни в чем не бывало, а нагрузи чрезмерно – просто упадет по дороге и умрет на ходу… У его жены Тани натура потоньше. Да и женам богатырей всегда больше самих богатырей достается… Как же ей не устать, когда на руках школа, храм, две коровы, овцы, большущий огород – всё на ней. И в доме никогда своей семьей не живут. Всё у них чужие люди ютятся. Тане бедной нет даже уголка, где можно одной дух перевести от всех жизненных тягот. Потому она когда вырвется в воскресенье в монастырь на литургию, то на службе уже ни на кого, кроме Бога и святых Его, не глядит. Кто не понимает ее жизни, тот обижается: почему, мол, она не здоровается? почему сторонится? Отец Иоанн сразу встает на ее защиту. Нам с Мариной тоже в свое время разъяснил, и мы теперь не обижаемся на Таню…
Пошел я вокруг храма. Гляжу: сидит на бревнышках одна женщина. По всему видно, опытная крестоходка: сухарик жует, да и на груди у нее наша иконка преподобного Иринарха. Теперь редко кто с ними идет, а в первые годы у всех они висели на шее. Нынче я человек семь с ними видел. Перед вторым или третьим крестным ходом, теперь уж точно не помню, заказали мы по благословению отца Иоанна в Москве бумажные иконки преподобного Иринарха. Накануне крестного хода заехали получить их, а в типографии, оказывается, даже не собирались печатать и сказали, что сегодня уже никак не получится, разве что завтра к вечеру. Мы так и ахнули: утром крестный ход! Рассказал я им про преподобного Иринарха и закончил словами, что сейчас в России снова смутное время и те, кто идет в крестном ходе, это воины на поле битвы. Видимо, преподобный Иринарх помог нам. После моей пламенной речи сразу взялись за дело и за три часа отпечатали пятьсот икон. Когда я хотел от себя лично отблагодарить всех работавших денежной премией, то они дружно отказались: с воинов-крестоходцев денег не берем.
Потом мы в темноте ехали по Ярославке в Борисоглеб. Добросовестная Мариша всю дорогу привязывала к иконкам шнурки. Въехали в монастырь во втором часу ночи. Это была наша маленькая победа…
Опытная крестоходка бережно поправила на груди иконку, встала: «Ну, пошли на помазанье». Выйдя из храма вместе со счастливой Голубичкой, я ласково посмотрел на нее: благодаря ей опять попал на помазанье – не было бы ее, вряд ли бы я поехал на всенощную.
На следующее утро, услыхав, как Голубичка вышла на крыльцо, я не стал спать дальше. Она всегда молилась утром на лавочке возле дома. И потом всё восхищалась, как же хорошо молиться прямо под небом. И не замечала она утренней сырости, холода. Чистая старушечка русская в белом платке на лавочке у дома.
Вошел тихонько в дом. Все спят. Мариша, конечно, сразу глаза открыла тревожно. Успокоил ее: «Спи, спи – рано еще. Я скажу, когда вставать». Внучата разметались во сне. Поправил на них одеяла. Вдруг такая нежность к ним, что даже перестал раздражать беспорядок в доме. Я моряк, а корабль – это идеальная чистота, это нескончаемая приборка. Когда вдвоем с Малышом мы жили, всегда у нас в доме порядок был. Долго-долго глядел на внучат и подумал, что и в этом для меня крестный ход…
Алешка в это утро умылся вперед всех и ходит за мной по пятам. Я на могилку к Малышу – и он: «Дедушка, можно я с тобой?» На могилке в саду меж двух старых яблонь он вслед за мной сам прикоснулся пальцами к земле. Сели рядышком с ним на низенькую скамеечку, на которой я каждое утро сижу. Алешка вдруг спрашивает: «Почему вы его Малышом назвали?» Я удивленно посмотрел на него – ведь о самом главном спросил. Словно рядом со мной не восьмилетний ребенок, а мудрый взрослый человек. Сначала я ответил, что сильно его любили – «вот и тебя иногда малышом зовем». И вдруг вспомнил и понял, почему Алешка именно об этом спросил. Рассказал: «Мама твоя, когда была девочкой, слишком себя любила. Везде: на тетрадках своих, на книгах – писала “Малыш”. Я сам несколько раз слышал, как она говорила новым знакомым, мол, близкие люди зовут ее Малышом. Поэтому когда взяли щенка, меня осенило: если назовем его Малышом, тогда она перестанет так звать себя и будет любить себя поменьше. Насчет себялюбия не знаю, но звать себя Малышом перестала».
Конечно, из-за Нины с детьми опять опаздываем на литургию, и Голубичка хоть и молчит на этот раз, но уж так кряхтит, так кряхтит, такое лицо у нее несчастное. Но мне и это в радость – уже не забываю: если бы не она, то мы наверняка не одну литургию проспали бы совсем и в какой-то день могли вообще отстать от крестного хода…
Наконец едем. Утро такое солнечное, такое синее, такое зеленое. Вот они, Кринки мои любимые. Сколько раз шел я здесь из Борисоглеба в наше Старово и обратно. Зимой и летом с сумками на колесах, с тяжеленным рюкзаком за плечами. И каждую субботу вечером и воскресенье утром – на службы в храм монастырский. Однажды возвращались с Маришей со всенощной. Такой мороз был, что деревья щелкали, стреляли даже. Вокруг лес. Ни одного человека, ни одной машины. Темень вокруг. Жутко нам стало. Для поднятия духа взялись петь молитвы. Сначала тихо, несмело, а потом так распелись, что все страхи улетучились, и мы даже спели «Ой мороз, мороз, не морозь меня…» Такими счастливыми себя почувствовали – идем из нашего родного монастыря Борисоглебского, дома нас ждет не дождется наш верный любимый Малыш…
В Кринках море соловьев и вообще столько здесь птиц поющих! Всю Россию я вдоль и поперек проехал, но нигде столько птиц разом не слыхал. В озерке, не видном с дороги, по словам моего друга Сани, даже бобры опять завелись. Я часто прошу его про бобров молчать, а то убьют их. Он смеется надо мной, чудаком: «Да и без меня узнают». Я снова втолковываю ему: «Узнают, но не от тебя. А ты молчи…» Саня молчит… и бобры пока живы-невредимы. Раньше у нас лис, зайцев было – чуть не каждый день прямо на дороге их видели, а теперь они редкость. Слишком много и у нас предприимчивых людей завелось…
Думаю, Кринками это чудное место назвали потому, что здесь раньше в озере росли чудесные лилии, те, которые Бог одел лучше Соломона во всей славе его. В псалмах и акафистах лилии называют «крин сельный», и в словаре Владимира Ивановича Даля лилии называются кринками. И я мечтаю: раз снова бобры завелись, может, скоро и лилии божественные снова появятся… Но пока Саня лилий здесь не видел, а вот волк осенью в Кринках появился. Люди говорят: старый стал, от стаи отбился. Уж к которому человеку здесь в Кринках он прямо на дорогу выходит. Все в испуге убегают, но волк почему-то не гонится за ними, не нападает… Может, он заболел и за помощью идет? Как лев в пустыне вышел к преподобному Герасиму с распухшей больной лапой. Святой-то не испугался, вынул занозу из лапы, и лев потом до смерти ходил за ним как собака…
Вот и хутор уже виден. Так у нас называют одиноко стоящий возле дороги двухквартирный кирпичный большой дом. Земля вокруг хорошая, рядом лес, а у людей здешних всё как-то жизнь не ладится. Глядя на этот дом, я часто думаю, что Столыпин был все-таки неправ: не могут русские люди жить отрубами; им надо жить селом возле храма, тогда всё будет слава Богу. Напротив хутора шагает нам навстречу из Борисоглеба молодая семья. Совсем юная мама с коляской, рядом – такой же юный папа, и чуть впереди оглядывающийся на хозяев, еще более юный черный щенок лайки. Когда проезжали мимо них, сердце так и сжало: щенок удивительно похож на Малыша. И вдруг я физически почувствовал, что Малыш рядом. Потом все встречные собаки борисоглебские говорили мне об одном: Малыш рядом с тобой, он идет рядом…
***
В Ивановском даже Голубичка не смогла попасть в храм. Там не то что яблоку, ягодке негде упасть: владыка Кирилл, архиепископ Ростовский и Ярославский, литургию служит!..
Первый, кого увидели, был отец Илья, иеромонах Борисоглебского монастыря. Когда я чуть не умер, тогда, в Борисоглебской больнице, он дежурил возле меня, даже ночевать оставался. К тому же отец Илья окрестил моего младшего брата Валерия.
Летом 1998 года позвонила мама: «Ты с кем едешь?» – «С кем-нибудь да поеду…» – «Попроси Валерку. Хочешь, я сама ему позвоню?» – «Ладно, мама, не беспокойся. Доеду я с Божией помощью».
Мне не хочется расстраивать ее, что брат уже отказался, но материнское сердце не обманешь – она снова повторяет: «Хорошо бы Валерка с тобой поехал, тогда бы у меня на душе спокойнее было».
Я за рулем считанные дни, а тут впервые в Старово-Смолино аж за 250 километров один еду. Уже перед самым сном я всё же позвонил брату ради матери. Он неожиданно согласился без лишних слов…
***
Сначала заехали в Борисоглебский монастырь. В храме только началась всенощная. Я обрадовался: прямо с дороги попасть на службу такое счастье. И для Валерки хорошо. Придется ему службу отстоять. Он к Богу тянется, но некрещеный пока. Боялся я, что Валерка уйдет во двор – даже привычному человеку нелегко три с лишним часа на одном месте стоять, да еще в храме холодища, но брат выдержал до конца.
Едем Кринками. Уже за деревьями наше Старово-Смолино чувствуется, вон и тополь наш показался. Сердце как всегда расходится. По обочине идет с вечерней дойки Валентина. После уговариваний смущенно садится в кабину. Спрашиваю: «Что в деревне нового?» Целых пять дней не был. Она спокойно отвечает: «Да всё вроде бы по-старому… Сегодня Шурика Ермолова похоронили». Меня словно обухом по голове стукнули. Александр Иванович Ермолов – в деревне его все звали Шуриком, а я Иванычем – был самый близкий мой сосед. Все десять лет деревенской жизни мы с ним дружили, вместе все крестьянские работы вершили, вместе радовались, вместе горевали. Он каждый день у меня бывал. И вот Иваныч помер… а я даже не был на его похоронах…
Захожу к соседке Алюшке за ключом от дома, а сам ничего не соображаю – Иваныч умер. Она и всегда-то с жалобой (потому, наверное, и зовут ее в деревне ласково-жалостно Алюшка), а тут совсем как старуха нахохлилась: «Слышал, Иваныч помер? Три дня в доме валялся. Ладно, дни холодные были да на полу он лежал. Между кроватью и лежанкой. Видимо, пытался залезть и упал». И тут же она, как всегда, о своем горе, что внука Максимку с гнойным аппендицитом в Ярославль увезли, операцию сделали. «В понедельник обещают выписать, а я хочу завтра Колю взять и съездить к нему с тобой попроведывать».
Я совсем растерялся: в кои-то веки приехал с братом, а тут – на тебе. В Москве-то мы с ним раз в полгода видимся, да и в тамошней суете толком не поговоришь. Потом завтра должны приехать Саня Савельев и Александр Кавуновский. Наслушавшись рассказов Савельева о Борисоглебском монастыре, Кавуновский решил окреститься именно здесь. Да и как-то неприятно задело, что Алюшка не попросила меня съездить, а как бы распорядилась. Я недовольно возразил: «У меня завтра люди приезжают…» Алюшка поджала губы, встала из-за стола: «Ладно, Сережа, Бог с тобой. Я пойду займу денег и как-нибудь сама доберусь». Попытался успокоить ее: «Аля, да ведь Максимку в понедельник уже выписывают, может, не надо горячку пороть». Но у Алюшки характер о-го-го: «Да, тебе Максимка никто, а мне – родное дитя. Бог с тобой, Сережа. Когда с собачкой надо посидеть, так никто из твоих друзей не поможет – к Алюшке бежишь. Спасибо тебе. Доберусь я. У меня и так долгов куча».
Вижу, разговаривать бесполезно: «Когда успокоишься, приходи, поговорим». – «Нет уж, больше я к тебе не приду. Кончилась наша с тобой дружба». Тут уж и я рассердился. Иду к дому и про себя разговариваю: «Нашла чем попрекнуть, Малышом. Велика работа – два раза в день собаку покормить. А мы что, мало для вас делали?! В беде всегда помогали с Мариной, да и деньгами не обижали. И за Малышом ведь не бесплатно же ты присматривала». Стал ворота открывать и от доски такую занозу в большой палец левой руки засадил, аж в глазах от боли потемнело. Понял, что Господь наказал меня за сердитость. Сразу поутих, но в Ярославль почему-то твердо решил не ехать…
Заноза вошла так глубоко, что даже Валерка при всей его добросовестности не смог вытащить ее.
***
На другой день приехали гости и мы сразу в монастырь. Они крестик покупают, спрашивают, что делать перед крещением, и я не выдержал, безо всякой надежды спросил брата: «Может, и ты окрестишься?» Брат, обычно отвечающий, что он еще не готов, вдруг молча кивнул головой: «…Но мне белую рубашку надо». Я испугался, что бес опять Валерку отведет, говорю: «Ничего, я с батюшкой поговорю, и так сойдет». Но брат всегда всё по-своему сделает: «Я сейчас сбегаю куплю». Он ушел, а я только развел руками: «Придет он или нет… Как Господу угодно». Однако через три минуты брат вошел в двери с белой футболкой в руках. Отец Илья сделал было замечание, что футболка не подходит – на ней рисунок иностранный, но я так умоляюще взглянул на него…
Во время крещения у меня вдруг побежали слезы, и я сразу вспомнил, как мать упорно хотела, чтобы Валерка поехал со мной. Вот оно, материнское сердце!
***
Колодчик преподобного Иринарха встретил благоуханием черемухи, усыпавшей землю белыми лепестками, словно Божией порошей.
Святая водичка сладкая. Отец Иоанн рассказал про беременную женщину. У нее неправильно плод лежал, а после купания в купальне Иринарховой он, на удивление врачам, встал как надо и она родила здорового мальчика. Еще он вспомнил, как зимой они пробирались сюда по снегу с одним кинорежиссером. У того много лет болели ноги, и отец Иоанн предложил ему искупаться. Он сначала наотрез отказался, а потом, глядя на преобразившегося после купания отца Иоанна, всё же рискнул окунуться. Вскоре прислал из Москвы письмо, что произошло чудо: ноги болеть перестали. Еще о многих чудесных исцелениях на колодчике поведал нам отец Иоанн, а я добавил, что в прошлом году заболели у меня зубы, и кто-то предостерег: мол, не пей воду из источника – очень она холодная, и ты потом совсем с зубами замучаешься. Я же решил, что, наоборот, вылечу, и выпил ледяной воды. Тотчас зубы ныть перестали и с тех пор не болят.
По традиции отец Иоанн купался первым. Вода студеная, но после так сладко становится на душе и в теле, что никакими словами передать невозможно.
От колодчика к дороге мы шли впереди, а батюшка с новокрещеными как-то поотстал. Пошел сильный дождь, мы заторопились к машинам, но трое сзади даже не прибавили шагу. Красиво смотрелись три фигуры посреди полей. Черный монах, а по бокам две внимательно склоненные фигуры высокие. Мы даже вслух позавидовали им.
Обратно поехали другой дорогой, через Высоково, Щурово, Андреевское на Лиге… Опять пролился дождь, потом солнце нещадно припекло, а перед въездом в Борисоглеб, в сосновом бору, слепой дождь пошел. Всё многоцветье русского лета в один этот день вместилось. А в Старове сразу пошли гулять с Малышом в луга и возле березовой рощи одновременно с братом сказали: «Только радуги не хватает». Обернулись назад, а над золотыми полями, над зелеными лугами, над голубой рекой – радуга во всё небо. До самой земли опустилась, словно лестница…
***
Из Ивановского всегда не хочется уходить. Простору много. И жизнь здесь, в отличие от других сел и деревень, кипит благодаря семейству Мартышиных… Легли мы на травку. Нина вдруг откуда-то вытащила полиэтиленовую баночку с крыжовником: «Тетя Аля – детям». Я сразу насторожился, когда Алешка стал одну за другой ягоды поедать, но промолчал, подумав, что Марина обидится: мол, опять на дочь нападаешь.
Чтобы не терять зря времени, разумная Марина решила, что здесь нам удобнее всего возложить на себя вериги преподобного Иринарха. Благо, очередь совсем небольшая. От этих вериг уже были чудесные исцеления. Я своими глазами видел двух бесноватых женщин, которые, надев вериги, начинали кричать мужским басом. Сначала они прыгали, бесновались, потом на глазах слабели и начинали просить, чтобы с них сняли вериги. Потом утихали и после снятия вериг становились добрыми светлыми людьми. Так что мы все дивились, что каких-то пять минут назад у них были страшные рожи – по-другому не скажешь. Да что там вериги, когда даже их фотография обладает огромной духовной силой. Один человек, воюющий с монастырем, все пытался на страницах газет доказать, что эти вериги не настоящие, не Иринарховы. Мол, игумен Иоанн обманывает людей. Однажды на конференции краеведческой мы дали этому человеку в руки старую фотографию вериг, чтобы он убедился, что и на снимке, и в монастыре одни и те же вериги. Это было очевидно даже неспециалисту. Взяв в руки фото, он успел только сказать, что есть разные мнения о подлинности этих вериг, как вдруг лицо его зверски перекосилось и он бросился с кулаками на стоявших рядом людей. Бросанул одного, другого схватил за грудки, протащил через весь зал и так ударил о стену, что оторвалась гардина. Сила в нем была явно не человеческая… Он не был пьян, а, именно взяв в руки фото вериг, начал бесноваться. Один из его «команды», печально известный реставратор, подскочил ко мне. До этого в своем выступлении он всё пытался доказать, что строители во все века халтурили, даже когда возводили стены монастырские. Ничего себе халтурили: пять веков стены стоят; а вот после него всё через несколько лет рушится. Так вот, подскочил этот реставратор ко мне и негромко сказал: «Ненормальный». Его жена добавила: «Шизофреник». Я согласно кивнул: мол, конечно, нормальные люди ни с того ни сего не бросаются на людей с кулаками. И только позднее понял, что это они меня обозвали ненормальным, шизофреником. Я написал очерк, как их компания воюет с монастырем. Теперь разумею: преподобный Иринарх удержал в тот момент мой ум от понимания. Этот коварный реставратор просто провоцировал меня: чтоб началась свалка, а в свалке уже трудно разобрать, кто прав, кто виноват. Тем более что «борец с веригами» занимает большой пост и является лицом неприкосновенным!.. Слава Богу, удержан был ум мой, потому что не могу ручаться, что я бы никак не ответил на оскорбление…
А обрели вериги преподобного Иринарха чудесным образом. Было известно, что они находились в церкви села Кондакова, а после закрытия церкви их увезли в Троицкий храм села Губычева. В Губычеве отцу Иоанну рассказали, что после закрытия храма в 1960-х годах вериги увезли в музей города Углича. Отец Иоанн разыскал дочь старосты Троицкого храма, видевшей вериги на протяжении многих лет. В музее она их сразу узнала, но под ними было написано, что они взяты из церкви села Нефедова. Директор музея на просьбу игумена Иоанна вернуть вериги преподобного Иринарха ответил, что слова человека не являются доказательством, что это именно вериги преподобного Иринарха, тем более написано, что они не из церкви села Губычева, а из церкви села Нефедова; вот если бы наместник представил фотографию вериг, тогда он отдал бы их без разговоров. Директор был уверен, что вериги навсегда останутся в музее. Ведь любому умному человеку было ясно, что едва ли она есть в природе – фотография этих вериг. Вериги – это не храм, не икона… Но так думают люди неверующие. Вскоре после отказа музея отдать святыню законному владельцу – Православной Церкви, отец Иоанн оказался в городе Туле в классической православной гимназии, ректором которой является протоиерей Лев Махно, почетный гражданин города Тулы. Во время встречи с преподавателями гимназии игумен Иоанн рассказал о родном Борисоглебском монастыре и поделился печалью о веригах. Когда он закончил словами, мол, едва ли она у кого есть, эта фотография вериг, отец Лев неторопливо спокойно возразил: «Отец Иоанн, у меня есть эта фотография». Не веря своим ушам, отец Иоанн промолвил: «Вы шутите, отец Лев?» Тот снова возразил: «Разве я похож на человека, который шутит?» Он принес две фотографии, как будто специально снятые для показа дирекции Угличского музея. На одной он стоит в веригах преподобного Иринарха лицом к нам, а на другой – спиной. О таких фотографиях даже и мечтать было невозможно. Оказывается, в 1960-х годах отец Лев, тогда еще семинарист Троице-Сергиевой лавры, часто ездил в Углич к родным и однажды, узнав, что в Губычеве в храме есть вериги преподобного Иринарха, специально заехал туда со своим другом (позднее ставшим известным ученым – монахом Марком (Лозинским), сделавшим всенародным достоянием многие труды святителя Игнатия (Брянчанинова). И они не только возложили на себя святыню, но и оба сфотографировались с ней.
Взяв безценные фотографии, отец Иоанн поспешил с ними в Углич. Директор был поражен и, после обязательных формальностей, вынужден был отдать вериги Борисоглебскому монастырю. Но игумен Иоанн привык всё доводить до конца: он узнал, что церковная утварь из церкви села Губычева и из церкви села Нефедова вывозилась в один день и на одной машине. Потом это свалилось в одну кучу с чугунами и ухватами и пролежало так около десяти лет, и при разборе сотрудники музея, уже, конечно, позабыв, откуда что привезли, да и не считая это важным, сделали надпись, что вериги из храма села Нефедова. Однако игумен Иоанн и на этом не остановился, словно предчувствовал, что найдутся люди, которым придется доказывать подлинность вериг, он узнал, что в храме села Нефедова не было никаких вериг.
В следующем крестном ходе игумен Иоанн шел впереди в веригах преподобного Иринарха. Когда его спросили, не было ли ему тяжело в таких железах, он даже удивился: «Это теперь тяжело, а в веригах было легко – сами вериги меня несли…» Сегодня в веригах идут по очереди все крестоходцы…
***
После обеда служили литию на кладбище Ивановском и – в путь. Стою, ожидаю моих тихоходных спутников. Передо мной на могильной стеле под портретом еще нестарого мужчины надпись: «Было много метаний, вот обрел ты покой». А ведь едва ли он его обрел… редко кто его там обретает. Очень немногие. Кто здесь не обрел, тот и там покоя не обретет. Смертью пахнуло и так жалко-жалко стало этого человека, и людей, придумавших эти слова…
Большой спуск по тропинке в долину к маленькой речке. Крестный ход растянулся километра на два от околицы Ивановского до околицы деревни Титово. Словно чудесная живая река, могущая любые горы преодолеть… Рать Христова! Нашими дорогами ярославскими, получив благословение преподобного Иринарха, вот так же шло войско князя Пожарского. С хоругвями, с иконами, с молитвами! На Святой Руси война была крестным ходом, а отбивались мы от врагов безпрестанно!
Перед Георгиевским какое-то благоухание. Вокруг вроде бы ни роз, ни крина сельного. Разве что вот эти большие растения? Но непохоже… Уж очень на полынь смахивают: стебель тоже высокий, крепкий, вот только на полыни цветов нет, а здесь маленькие белые цветочки вокруг всего ствола. Понюхал – аромат до боли знакомый, родной… Вокруг целые поля этих цветов. Подошла Марина, тоже понюхала: «Донник. Любимое растение Бунина и Ахматовой». Словно со страниц прозы Бунина повеяло русской степью. Сразу вспомнил любимую бабушку Василиссу, не раз водившую меня на степь за селом. «Пошли, Серенька, за счастьем», – говорила она. Для нее каждый цветок на земле, каждый жаворонок на небе были родня!.. Про Марину она бы сейчас непременно с уважением сказала: «Все знат». И я наконец-то понял, что Мариша моя, как та чудесная девушка из ночной станицы у Черного моря, тоже читала ночью благоуханные книги, стоя на коленках на стуле… Чудесная девушка стала моей женой… Нет, не зря бабушка Василисса водила меня на степь за счастьем…
Опьяненный благоуханием Маришиного донника, я долго с наслаждением глядел на степное раздолье. Посмотрел под ноги, а через дорогу неспешно ползет черный крот. Думаю, не затоптали бы. Попробовал взять его на руки, но он так запищал. Нашел сухую веточку донника и стал этой веточкой направлять его путь, а он встал на месте и ни туда и ни сюда. Люди подходят, останавливаются – ждут, когда крот дорогу перейдет. Машина подъехала – остановилась. Крот успокоился, потихоньку перешел дорогу – скрылся в чаще донника. Мы продолжили свое шествие.
В самом Георгиевском Марина толкнула меня в бок: «Вот в этом доме Мишка работает». Довольно богатый дом. Не из роскошных, но и не бедный. Мишка – наш знакомый паренек борисоглебский. Мы его опекаем с Мариной с самого детства. Перед крестным ходом я сказал ему, когда ход начнется. А Мишка в ответ: «Когда мне, деньги надо зарабатывать». Хотя я много раз говорил ему: «Если ты идешь, а навстречу тебе – крестный ход, а ты не в больницу, не на пожар спешишь, значит, не туда ты идешь. Задумайся о своей жизни». Отец Иоанн возобновил воскресные крестные ходы вокруг монастыря, и я не раз с печалью видел, как Мишка шел мимо. Батюшка наш очень любит крестные ходы, придает им огромное значение. Как-то я сказал, мол, мы с Мариной в воскресенье в другой храм поедем, и он не на шутку взволновался: «А крестный ход как же?» Хотя, конечно, здесь дело было не только в крестном ходе… Он очень ревностно, бережно относится к своим монастырским прихожанам.
Внимательно посмотрел я на этот богатый дом, и мне даже показалось, что Мишка через щель в заборе глядит на нас…
***
Одарив своей чудной улыбкой, прошла Аннушка и сразу унесла нашу печаль. Вот уж кто никогда мимо крестного хода не пройдет. Она живет далеко от Борисоглеба в лесной деревеньке, но каждую литургию она – в храме. Частенько и пешком идет. Летом у нее всегда длинная юбка словно оторочена внизу широкой темной лентой. Как-то пригляделся повнимательнее: это не лента, а юбка снизу – мокрая. Словно воочию увидал, как Аннушка идет по росистым лугам, по проснувшимся лесам, и птицы радостно приветствуют ее утренним пением, которое несравненно прекраснее дневного. Вот счастливая-то! Аннушка во всех наших крестных ходах прошла. Выросла в них. Семья у них православная – детей много. Теперь самую маленькую сестренку они с мамой в коляске катят. Самую юную крестоходку.
Аннушка какое-то чудо. Даже просто глядеть на нее сплошной праздник. Ресницы всегда опущены, всегда задумчива, серьезна, что-то слушает в себе или молитву творит… Но стоит к ней подойти или сама она увидит знакомого, как сразу синие глаза ее распахиваются от радости. Как Василисса Прекрасная она расцветает. Не то что некоторые: лучше их не беспокоить – таким холодом от них повеет, что поневоле отойдешь подальше. Мы с Мариной называем таких «православным форматом».
Аннушка очень походит на игумена Иоанна, он тоже такой: всё в себе, но подойдешь к нему, он сразу – весь к тебе. Да и как ей не походить на него, если она, можно сказать, выросла в монастыре…
Увидав магазин, я, как многие крестоходцы, кинулся к нему чуть не бегом. Вдруг почувствовал такой голод, что скулы свело. Но опоздал: в магазине уже было полно народу. Слава Богу, в числе первых стоял знакомый серб, частенько приезжающий в наш монастырь. Только я взглянул на него – он сразу спросил, что купить. Я попросил целых два батона. Обо всём позабыв, сели на травку подле храма и принялись за трапезу. С таким наслаждением давно не ели. Вдруг одна девчонка подбежала к нам и чуть не со слезами: «Дайте, пожалуйста, хлеба». Отломил ей треть батона – она была счастлива и, думаю, тоже запомнила эту трапезу в Георгиевском на всю жизнь…
Начался молебен. Я встал, пошел туда и сразу вспомнил, как в первом крестном ходе мы шли здесь вокруг храма рядом с Эдуардом Федоровичем Володиным. Глядели на купола, где выросла целая березовая роща, и пели: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Он отдал Богу душу 11 декабря 2001 года. Друзья-соратники вскоре издали его книгу «Ответ перед Господом нам держать всем». В некрологе сказано: «Умер Эдуард Федорович Володин… Великий русский человек, великий русский мыслитель. Внезапно мы осиротели…» А другой крупный русский человек, Михаил Петрович Лобанов, написал: «Я вспоминаю, как на каком-то торжественном вечере в Союзе писателей, где было много военных, генералов, вдруг появился профессор Володин – и как они вытянулись перед ним. Я почувствовал, что в этот момент он стал как бы духовным водителем этих генералов… А этих качеств ни у одного философа или писателя я не встречал… Когда умер Достоевский, Толстой почувствовал, что одна из опор его жизни отскочила… Вот и у меня такое ощущение, что, когда не стало Э.Ф. Володина, я лишился в своей жизни чего-то очень важного и значительного…»
В название книги друзья промыслительно взяли слова из последней статьи Эдуарда Федоровича «Ответ перед Господом нам держать всем». Володин крепко стоял в первых рядах русских патриотов и напоследок призвал нас стоять так же мужественно, а не то… Напомнил, что никому не уйти от ответа. Словно предчувствовал он, что соратники его начнут колебаться…
За неделю до смерти Эдуард Федорович, во святом крещении раб Божий Иадор, исповедовался, причастился и вдруг дня за три до кончины неожиданно попросил своего духовника опять исповедовать его. Тот даже удивился: мол, только что ты исповедовался. Не всякому человеку Бог посылает такую милость – два раза исповедоваться перед смертью! Через три дня сердце Иадора начало останавливаться. Приехавшие санитары развернули носилки, но Иадор отказался в них ложиться – он всегда был мужчиной, воином. В машине «Скорой помощи» сердце его перестало биться…
Из многочисленных встреч с ним на Борисоглебской земле я особенно запомнил две. Как-то в первые годы после открытия монастыря, когда еще не было благотворителей (вернее, они были: бабушка из села Красного на своем горбу принесла за несколько километров чуть не полмешка картошки…), когда вся братия еще жила вместе в старом корпусе, был праздник. Мы сидели за столом. Вдруг один московский гость как-то спохватился, попросил у отца Иоанна разрешения позвонить по телефону в Москву. Говорит одну минуту, вторую, третью… Эдуард Федорович один раз выразительно посмотрел на него, другой, потом красноречиво показал часы на руке: «Паша, межгород!» Стало тепло на сердце, что он так заботится о благосостоянии монастыря.
Но, главное, мы шли с ним рядом в Георгиевском вокруг заброшенного храма, глядели на березовую рощу на его куполах, пели: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вдруг у меня слезы так и потекли из глаз. Виновато взглянул на Эдуарда Федоровича: дескать, прости, что я так не по-мужски, а у него в глазах – такие же слезы… Сразу такая радость в душе соборная!
На сороковинах духовник Иадора архимандрит Тихон сказал: «Промыслительно, что, пройдя сорок дней мытарств за свою прожитую жизнь, душа раба Божиего Иадора предстала перед Господом именно в день Крещения Господня – когда омываются все грехи человеческие… Мы молимся за него. А самое главное, он перед престолом Божиим – я глубоко в это верую – молится и будет молиться за нас».
Эдуард Федорович был одним из самых надежных защитников монастыря «от крыс». Стоял в первом ряду вместе с архимандритом Афанасием, с отцом Павлом (Груздевым). Это отец Павел благословил отца Иоанна, тогда еще насельника Спасо-Яковлевского Ростовского монастыря, на игуменство в Борисоглебском монастыре. Это по его святым молитвам Господь помиловал племянника отца Иоанна. Придя из армии, племянник, видимо, тоже не захотел побыть с матерью, а помчался сразу к друзьям и попал на мотоцикле в аварию. Хотя он-то, скорее всего, для того, чтобы прославить отца Павла… Отец Иоанн, жалея племянника, поехал за молитвенной поддержкой к отцу Павлу, а он вдруг говорит: «Пусть идет к Господу. Чего ему здесь делать!» Отец Иоанн даже затрепетал: «Батюшка, он же такой молодой, только из армии вернулся». Отец Павел задумался, потом хлопнул по плечу: «Будет жить Лешка. Скажи: отец Павел за него молится. Мы еще на свадьбе у него погуляем». После отец Иоанн узнал, что именно во время их разговора племяннику действительно грозила смертельная опасность…
***
Уходим из Георгиевского. По одному через узенький деревянный мостик над маленькой речкой. После мостика крутой высокий подъем. На самом верху слева – одинокая сосна. Показалось, что стоит подняться – и впереди заколеблется зеленая океанская даль. Такие одинокие приземистые сосны растут на берегу океана. В лесу соснам тесно, и они тянутся вверх к солнцу, а на берегу океана солнца изобилие и рядом никого, вот и вырастают они мощными, широкими, с длинными-длинными ветвями.
Поднялись наверх, и открылась глазам даль русского поля. Оглянулся назад, а там – храм, голубые, синие моря лесов… Там и здесь – Россия матушка…
Сколько шли, не помню. Слева село Никульское. Над нами – черная тучища! Думаю, не я один, а все молились, чтоб ее пронесло. Уже не во что сухое было переодеться. Тучищу не пронесло, но пока мы шли под ней, она дождя не пролила… Слава Тебе, Господи.
Обогнали с Алешкой одинокого мужчину. Судя по выправке, военного. Он с наслаждением глядел вдаль, на небо, вдыхал полной грудью ароматы русского разнотравья. Вдруг будто сам себе, а может, и для нас с Алешкой, молвил: «К благодати тоже можно привыкнуть. И тогда она исчезает». Про какую благодать он сказал? Про ту, которая вокруг, или про ту, которая внутри?.. А может, про обе сразу?..
У деревни Горки такой крутой спуск к речке, что невольно останавливаешься. Да еще вымыло на тропе дождями такую промоину-расщелину, что как бы ноги не поломать. Но в самом начале стоял прямо в этой промоине, выставив вверх вместо заграждения правую ногу, отец Исаия. Иначе совершенно точно не один человек здесь упал бы и покатился вниз. К тому же мокро, скользко. Конечно, отец Иоанн подсказал ему. Зная, какая тяжелая жизненная полоса у отца Исаии, отец Иоанн всячески его обласкивал: сначала поручил канистру с освященной водой нести, чтобы доливать из нее в чашу. Это не так-то уж легко – почти пуд нести много километров!
Через речку пришлось переходить разувшись. Зато ноги отдохнули. Наверху нас встречал человек с кинокамерой. Гляжу, да это Валерий, старый мой знакомый. Не виделись с ним лет десять. Даже показалось, пошли мы разными дорогами. А было вместе прожито немало. Вместе прошли в крестном ходе с чудотворной иконой Касперовской Божией Матери по Одессе. На истоке Волги водосвятный молебен служили. Потом в Осташкове вокруг храма прошли в крестном ходе – Троица была. Это очень много! Вместе прикладывались к раке с мощами преподобного Нила Столобенского. Валерий так и простоял возле раки всю литургию. Я это отметил и запомнил.
И вот снова встретились в крестном ходе! Тепло поздоровался с ним, троекратно по-православному расцеловались от души. Невольно вспомнил еще одну свою спутницу в одесском крестном ходе, Олю. Я описал ее в очерке «Берегом того же моря». Наслушавшись моих рассказов о Борисоглебе, о нашей деревенской жизни, она грустно-мечтательно сказала: «Как мне хочется вашу Марину, Малыша вашего увидать, как хочется посидеть на лавочке под вашим дубом». Я обнадежил ее, что даст Бог свидимся еще. Про себя подумал: будешь в храм ходить, значит, встретимся (она впервые в жизни шла в крестном ходе, участвовала в богослужениях), а не будешь, тогда точно не встретимся.
Уже со многими старыми знакомыми я встретился в нашем крестном ходе – потому что стали они в храм ходить… Может быть, и с Олей одесской здесь встретимся. У Бога всё возможно. Да и крестный ход Иринарховский теперь на всю Россию известен, и даже за рубежами ее. И сербы, и греки, и поляки идут сегодня с нами!
Глядя вокруг восхищенными глазами, Валерий сказал, что, проехав всю Россию, таких красивых мест не видал, мол, здесь просто должен поэт родиться. Я прочитал ему Костино стихотворение:
В Борисоглебе в сентябре
Горит кленовая листва
И догорает на костре
Небес холодных синева.
И купола крестами вниз
Сияют в зеркале воды…
Но камень – бел, но голубь – сиз,
Но к небу тянутся кресты.
И сквозь наплывы тишины
Туманным утром на заре
Иные звуки мне слышны
В Борисоглебе в сентябре.
Валерий задумчиво посмотрел вдаль: «Да, это поэт». Благодарно пожал мою руку ниже локтя и, остановившись, продолжил съемку. Мы с Маришей и с Алешкой, как слабачи, с наслаждением упали в траву подле храма. Подходит к нам та крупная женщина. Вся светится от счастья. Опрыскала нас водой из бутылки с пульверизатором, пошла других утомленных опрыскивать. Она со второго крестного хода. Так тогда измучилась, что на лице одно страдание было и в Алешкино дальше идти не смогла. Я позвал ее в свою машину: кое-как влезла, сразу так изможденно откинулась на спинку, что сломала ее. Невольно подумал: «Зачем она-то идет? Сидела бы лучше дома – читала акафисты да каноны в уютной квартирке. Но больше-то уж точно не пойдет». И ошибся. Она потом во всех крестных ходах прошла, и даже трудно их без нее представить. Крупная, русоволосая, голубоглазая русская красавица. Наверное, увидав именно вот такую красавицу, кто-то из святых остановился пораженный и невольно воскликнул: «Слава Тебе, Господи!» И поклонился красоте, которую Бог сотворил.
В двух-трех километрах от села Давыдова пристал ко мне один новоявленный знакомый с разговором: хорошая ли машина «Ока» – увидал, что я в Ивановское на ней подъехал. Меня тоже бес попутал, и я согласился, что наши машины всегда «не доводят до ума», но делать, мол, нечего – иномарки не по нашему карману. И рассказал, какие копейки платят в наших патриотических газетах и журналах за рассказы и очерки. С обидой вспомнил, как в одном известном православном журнале перепутали мое отчество, и вышло, что это не я написал очерк, а кто-то другой. Но вместо того чтобы в следующем номере извиниться перед читателями, передо мной за допущенную ошибку, редакция предложила мне смиряться: мол, ты же православный. Я им ответил, что отец Николай Гурьянов в подобных случаях говорил: «Не мудрите». Дескать, виноваты – извинитесь, а не с меня смирения требуйте. Но никто передо мной так и не извинился…
Марина вдруг обогнала меня, обернувшись, красноречиво взглянула. Я прочитал в ее взгляде «возьмите нас с собой, туристы»… Сразу прикусил язык, отстал от моего собеседника. Тут еще Алешка закапризничал: мол, я сзади пойду. Я рассердился, но Марина показала глазами: оставь его в покое – никуда он не денется. Алешка догнал нас уже через минуту: «Дедушка, у меня живот болит». Пока отходили подальше в поле, он не стерпел. Пришлось ему попку лопухами вытирать. Сразу подумалось: вот – поболтал, празднословил – получи… И вспомнил также крыжовничек соседки…
В Давыдово храм восстановлен – скоро службы начнутся. Потому здесь традиционно встречают самым большим угощением. После литии на кладбище батюшка в своем слове вспомнил, как на первом крестном ходе пошел в Давыдове ливень, и пришлось молебен служить в заброшенном храме. На кладбище решили вообще не служить, чтобы не промокнуть. Закончили молебен, и ливень кончился. От такой радости и на кладбище литию отслужили. Я понял, что батюшка прикровенно напомнил, с чего и почему началось здесь возрождение храма. Конечно, с крестного хода. В своей проповеди отец Иоанн сурово сказал тогда жителям Давыдова, что если в таком состоянии храм, то о каком покаянии можно говорить. Потом я написал об этом в очерке «Борисоглебское лето». Через несколько месяцев приехал в гости к своему давыдовскому приятелю Володе Климзо. Он – человек деятельный, способный, но всё никак не мог найти себя. То учителем работал в Ивановской школе, то шабашником заделался. Печи клал, дома рубил, даже музыкальные инструменты реставрировал… А тут он спрашивает жену как-то таинственно-стеснительно: «Ну что, сказать Сереге?» Она раздумчиво ответила: «Ну, скажи». И Володя сообщил, что собрали они подписи: будут храм восстанавливать. Он энергичный да к тому же москвич: нашел в столице богатых благодетелей, и работа закипела. За несколько лет храм восстановили. Теперь едущие в Углич издалека любуются возвышающимися над Давыдово серебряными куполами-головами. Словно семья чудесных голубых птиц слетела с неба на землю…
А началось всё с ливня в крестном ходе… и с проповеди отца Иоанна…
В Давыдове я уже оставил Марину с Алешкой – теперь по асфальту не заблудятся, да и всего-то километров пять осталось – пошел наконец-то там, где молитвы поют. Открылось у меня второе дыхание. Обогнал многих старых знакомых: Бориса, Саньку М., Семена… Вдруг слева притормозила машина. Гляжу: из нее знакомая женщина энергично машет рукой, дескать, садись, подвезу. Махнул я, мол, не надо, а она не отстает, настойчиво призывает. Чуть было не соблазнился я. Но вспомнил, сколько идти осталось… Да и зачем? я ведь с ног не падаю. Более того, хочу идти, для меня это праздник, счастье великое. Решительно отмахнулся от нее как от надоевшей мошки. Потом даже зябко стало: если бы сел, то, конечно, всю жизнь жалел бы об этом. Вышел бы из крестного хода, значит. А цель-то вот она была! Рукой подать. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Я дошел! Я дошел! Много лет не чаял, не знал, смогу ли; думал, так и буду всю жизнь на машине, «в обозе», плестись уныло за крестным ходом. Ан нет. Дошел я!
***
Вот оно село Кондаково, родина преподобного Иринарха Затворника. Взглянул на обочину напротив храма и словно наяву увидал коробку с книгами. Как-то торговал я с машины книгами монастырскими, и когда все двинулись на колодчик, так заторопился, что коробку забыл на обочине. Вспомнил о ней только дома. Конечно, расстроился, что ввел монастырь в убыток, но отец Иоанн с присущей ему верой успокоил: «Не переживайте, Сергей Антонович, найдется она». Несколько дней я ждал, спрашивал в монастыре, не привезли ли. Потом кто-то приехал ко мне в гости, и я по традиции повез его на колодчик Иринархов. В Кондакове, выйдя из машины, на всякий случай прошелся по дороге: вдруг в канаве валяется. Нет, пусто. Подходит мужчина: «Чего ищешь?» Я ответил, а он: «У меня коробка. На другой день после крестного хода иду, смотрю: стоит. Достал одну книгу, другую – они все Божеские. Значит, с крестного хода. Думаю, а если дождь – забрал себе».
Вдруг захотелось есть. Огляделся, не видать ли моего знакомого Лешки – однажды он в Кондакове встретил крестный ход малосольными огурчиками с хлебом. Нет, на этот раз не видно его. Жизнь у Лешки не ладится. Всё он суетится, торопится, языком частит. Одна семья распалась, сразу опять женился, ребенка родил. И всё ему не везет. То теленка машиной сбил, то чуть руку топором не отрубил… Хозяйство у него большое, да еще торговлишкой промышляет помаленьку – прокорми-ка две семьи. Поэтому он, скорее всего, говорит другим или самому себе, как наши старовские крестьяне: «Когда мне?!» Не до крестных ходов им… Но в Кондакове Лешка встречал нас малосольными огурчиками, и на колодчике преподобного Иринарха на водосвятном молебне хотя и стоял позади всех в сторонке, но всё же стоял… А уж как Лешка хотел, чтобы умирающая от рака мать исповедовалась, причастилась. И меня просил поговорить с ней об этом. А мать всё ждала откуда-то издалека свою очень верующую подругу, и мы боялись, вдруг подруга не успеет. Успела. Уж очень Лешка хотел этого. Так что в свой черед, глядишь, и сам начнет приходить в монастырь причащаться. Успел бы только…
Храм на этот раз не узнать. Купола почищены. Потом отец Иоанн расскажет, что это Павел, скалолаз, постарался. У него тело на тридцать процентов в ожогах и дыхательные пути опалены, а он за три дня, пока мы шли, такую огромную тяжелую работу совершил. И стало ему лучше – это было его послушание.
Окна заделаны пленкой, двери навешаны. В самом храме всё убрано, земляной пол выровнен, временный алтарь оборудован.
На дороге у храма мой приятель Иван стоит. Увидал меня и почему-то растерялся, даже не подошел. Тогда я громко сказал: «У нас в Старове умные люди говорят, что старшим нельзя первыми здороваться – это портит младших. Могут они оборзеть». После этого Ивану больше ничего не оставалось, как подойти. Безчувственно ткнулся мне в плечо. Отец Сергий в таких случаях наставляет: «Ты не тыкайся, а целуй по-настоящему», но я не сказал, как отец Сергий. Хотел молча отойти, но взглянул на него, и жалко стало: «Что же ты по приезде не зашел, не спросил, как я? Мне очень тяжело было, и я на тебя надеялся». Иван опустил глаза – понял, что я попенял ему, что надо быть внимательнее к людям, сердечнее, а не только о личном благочестии печься. И я рассказал ему, как один знакомый священник, когда я поделился с ним своим горем: мол, такие две опоры мы с Мариной в этом году потеряли: ее руководительницу и нашего песика Малыша, – громко воскликнул: «Ну, это несравнимо». А я-то поделился с ним как с близким человеком. Так мне горько стало. Зато знакомая борисоглебская Елена Васильевна сразу подошла ко мне и ласково протянула конфетку. Я так поразился: я ведь не маленький ребенок. Она же смущенно оправдалась: «Я вижу: вам плохо. Возьмите, Сергей Антонович». Так хорошо на душе стало, что слезы опять потекли из глаз. Но это были другие слезы – сладкие. А вроде бы священник-то всё канонически правильно сделал…
Иван понял – попросил у меня прощения. Тут и Нина наша приехала. Дома глотнул я чаю и снова в Кондаково – за Голубичкой. В Кринках чудо – та юная семья с щенком, похожим на Малыша, назад в Борисоглеб возвращается. Видимо, отгостили у нас в Старове-Смолине, либо в Стеблеве, либо в Андреевском… А мне такой праздник – будто снова Малыша маленьким повидал! Будто скинул с плеч больше десятка лет!
Опять, как по заказу, попал прямо на помазанье. Оказался рядом с Борисом. В этот раз он не сторонился, но и не старался сблизиться. А я подумал: «Чего нам делить? Вместе в одном крестном ходе идем…» И батюшка всегда его от меня защищает. Наклонился к его уху: «Мы-то с тобой здесь, а где Юрка теперь, один Бог ведает». Борис охотно откликнулся: «Один раз разбогател, и прикончили». Юрка вроде бы продал отцовский дом, и его убили из-за этих денег прямо в родном доме… Хотя толком никто ничего так и не знает, да и вряд ли узнает…
Дома вечером внучата, впервые за три дня, неожиданно так разыгрались, так расщебетались. Словно и они почувствовали, что у нас праздник великий – дошли мы до Кондакова. Хотя еще завтра литургия, потом километр крестного хода к колодчику. Но это-то уже не труды, это уже сплошная радость! Такая к внучатам нежность. Обнял младшенькую, прижал к сердцу: «Дашутка, ты сбитень?!» Она у нас такая крепкая-крепкая и беленькая-беленькая. Дашутка вдруг отвечает: «Да, я сбитень. Хороший сбитень». Мы просто онемели от счастья. Откуда у четырехлетнего ребенка этот «хороший сбитень»? Потом, после крестного хода, я с надеждой много раз спрашивал Дашутку, сбитень ли она, но она либо молчала, либо неохотно повторяла за мной, что она сбитень… Конечно, тогда было счастье крестного хода!
Нина вдруг попросила показать ей могилу Малыша. Тоже, как соседка Алюшка, ищет дружбы со мной через Малыша. Видно, Мариша ей подсказала, но всё равно было приятно. Постояли рядом с могилкой, посидели молча на лавочке. Наверное, вспомнили о Малыше каждый свое. У дочери тоже с ним многое связано. Рассказал я ей, как Алешка спросил меня здесь, почему щенка Малышом назвали. Нина не обиделась, что я рассказал ему об ее детском себялюбии…
Дашутка больше не говорит, что она хороший сбитень, зато мы сами, когда называем ее так, сразу крестный ход вспоминаем… и счастливы…
Утром на литургию мы впервые за четыре дня приехали без опоздания. Надо было исповедоваться и, дай Бог, причаститься. Желающих исповедоваться – полк. Потом отец Иоанн с радостью скажет, что в Кондакове причастилось больше пятисот человек! Я про себя подумал: а сколько – в Борисоглебе, а сколько – в Павловом селе, а сколько – в Ивановском?!
Вот они, плоды крестного хода Иринарховского: за четыре дня – четыре литургии! Два возрожденных храма! Один вновь построенный! Весной 2005 года узнал, что в Георгиевском на храме очищены от грязи и деревьев своды, сделана временная кровля!.. А сколько душ человеческих возродилось благодаря крестному ходу! Это один Бог знает!
Отец Сергий, помня про наши с Мариной хвори, махнул со властью рукой: мол, идите без очереди. Мы радостно к нему. Выслушал он мою исповедь, потом строго говорит: «Надо бы на тебя земные поклоны наложить… Ты себя так утомляй, как будто после крестного хода вечером пришел: упал и сразу заснул». Здорово он сказал, предложил мне жить всегда как в крестном ходе!!! Счастливый отошел от него – все грехи мои отпущены! Вдруг слышу вверху ласковое, словно маленькие дети играют, щебетание. Под куполом три ласточки летают. И щебечут так, словно Сам Бог с нами радуется. Ну а как же Ему не радоваться: после семидесяти лет мерзости запустения в храме литургия служится!!! Тут одна хорошая знакомая осторожно меня за рукав трогает: «Удивляются, почему не могут вылететь». Кивнула на пленку на окнах. Сразу сердце заболело. Если она права, то погибнут, бедные. Конечно, не может быть, чтобы Господь в такой день допустил это, но знакомая заронила зерно сомнения, горечи… Однако такое было счастье в душе и вокруг, что я вскоре забыл о ласточках. Но после крестного хода узнал у Ивана, что сзади в храме, где раньше трапезная была, оставили они большую дыру и ласточки влетали и вылетали через нее. Так что прав был я: ласточки радовались вместе с нами!
Когда уже стоял в очереди к причастию, то Борис (оказывается, он на поезд спешил) окликнул меня: «Сережа, дай-ка я на твое плечо обопрусь». Оперся и перепрыгнул через ноги больного мальчика Федора. Я пропустил Бориса вперед. Почувствовал: отчужденность у нас исчезла.
Счастливый вышел из храма. Гляжу: ко мне направляется один известный человек. В нелегкую для монастыря минуту он соблазнился и отошел в сторону, а помощь его тогда была особенно необходима. Подумал он о себе и сразу начал тонуть… Потому я не знал: подать ему руку или же пройти мимо, будто он пустое место. А он уже с троекратным православным поцелуем и глаза виноватые: «Радикулит у меня». Я даже сначала не понял, при чем здесь его радикулит, а потом до меня дошло, что он оправдывается передо мной, почему не шел в крестном ходе. Сразу тяжесть с души свалилась. И все-таки приехал, не побоялся. Расцеловал его, говорю: «Иди в храм, там еще ко кресту прикладываются». Он радостно заторопился к дверям.
Подходит знакомый иеромонах из Спасо-Яковлевского Ростовского монастыря: «Сергей Антонович, тут журналистка с Ярославского телевидения, поговорите с ней». У меня после причастия настроение ликующее, даже подумал: кому, как не мне, с журналистами разговаривать. Тут как тут молодая женщина с микрофоном, оператор с камерой. Но здесь же какая-то любопытная. Красноречиво взглянул на нее: мол, не мешайте, – она будто не видит. Взял журналистку за локоток, отвел в сторонку, а любопытная – за нами. В другом месте я бы, пожалуй, сказал ей «пару ласковых», но рядом с храмом сдержался, решил просто не замечать. Спрашиваю журналистку: «Что вас интересует?» Она: «Да вот расскажите хотя бы распорядок дня в крестном ходе. Из чего день состоял?» Я: «После завтрака…» И вдруг любопытная возмущенно воскликнула: «Какой завтрак до литургии! Вы что!» Она была права, но я сердито спросил: «Какой раз вы в крестном ходе идете?» Она: «Третий раз иду», – и растворилась в толпе. И вдруг я понял, что мне ее Сам Бог послал – ведь на всю губернию прозвучало бы, что православные в крестном ходе завтракают до литургии. Вот было бы позору! Извинился перед журналисткой и побежал искать свою спасительницу. Уже у самого спуска к колодчику всё-таки разыскал ее: «Простите меня, Христа ради. Это вас Бог послал, а то бы опозорился на всю губернию и на крестный ход тень бы навел». А она: «Это вы меня простите, но я услышала и не могла промолчать». И потом я всё удивлялся, как бес может помраченье навести – ведь столько лет я в храм хожу, давным-давно живу поблизости от монастыря и прекрасно знаю, что до литургии православные не трапезничают, и вот на тебе. Но спасительница моя выглядит всё же неприятно. Правда, я много раз замечал, что часто для помощи Богом далеко не самые прекрасные с виду люди даются…
***
Народ стал подниматься с травы, чтобы идти на молебен к источнику, а мне надо везти Голубичку в Ростов – поезд у нее. А так хотелось побыть на молебне, всю радость до конца выпить.
В Ростове на вокзале первого увидел Бориса и очень обрадовался – сожалел я, что не попрощался с ним в Кондакове. А тут обнялись как лучшие друзья. Идем к поезду, и он спросил: как жизнь? Я ответил, мол, слава Богу, плохо – болезни одолели. У православных всё – слава Богу. И хорошо – слава Богу; и плохо тоже – слава Богу. Борис даже как-то с ехидцей удивился: «Откуда у тебя болезни? Ты ведь в деревне живешь». В его тоне явно прозвучало: дескать, я все время в Москве мучаюсь, и то не жалуюсь на здоровье. Рассказал ему притчу о себе. Как два раза бросал курить. После первого бросания через три месяца – легкое дыхание, чистота и сердце смеется от радости; через несколько лет покурил всего месяц и бросил во второй раз. Уже много лет не курю, а у меня – бронхит, аллергия и уже нет той чистоты, и сердце уже не смеется, как после первого бросания… Борис всегда отвечает быстро, уверенно, а тут наконец-то призадумался: «…Да, надо всё делать вовремя». У вагона обнялись еще раз, и пошел я устраивать Голубичку. Поезд всё удалялся, удалялся. Перекрестил его: поезжайте с Богом. И почувствовал, что я действительно счастливее уехавших. Они – в Москву, а я сейчас опять на колодчик поеду, потом еще в своем Старове буду жить до поздней осени, до белых мух… У меня праздник продолжается. Всё-таки Борис прав – грех мне жаловаться…
На колодчике из двух тысяч уже осталось человек пятьдесят. Даже немножко грустно стало. Но в купальню чтобы попасть, еще добрых два часа надо в очереди отстоять. Сколько же раз я уже был здесь?! Сколько раз купался в святой воде?! Как-то приехали вдвоем с Иваном. Вышли из машины, а у спуска в лощину стоит «жигуленок», полный молодых, явно веселых парней. Водитель в окно высунулся: «Мужики, а вода-то в источнике кончилась». Мы сразу подтянулись, и я спокойно ответил: «Эта вода никогда не кончится, даже когда мы с тобой кончимся». Он примолк, но не успокоился, поглядел на наш московский номер: «Неужели у вас в Москве такой воды нету?» Я опять спокойно: «Такой нету». Больше он ничего не придумал, и они развернулись и уехали. На колодчике после них целлофановые пакеты, окурки, спички возле самого сруба. Крышка открыта. Что это именно они нагадили на святом месте, можно было не сомневаться – слова, ими сказанные, выдали их с головой.
Иван тогда, искупавшись один раз «архиерейским чином» (три раза совершив троекратное погружение), вдруг решил еще повторить его. Еле отговорил, мол, владыка Евстафий и то один раз «архиерейским чином» купается. Авторитет владыки Евстафия для борисоглебских прихожан и паломников непререкаем. Иван начитался Сампсона: всё не по мере, не по силам делает и часто ломается из-за этого. У меня же к Сампсону отношение осторожное – уж очень он много подвигов требовал от своих духовных чад. Не по-русски это. Отец Иоанн рассказывал, как отец Павел (Груздев) говорил наиболее дерзким чадам: «Сиди лягушка в луже, не то будет хуже».
Очередь продвигалась медленно, и я вспомнил двух женщин с первого крестного хода. Темноволосую и рыжеволосую. Стояли они здесь на колодчике в сторонке, смотрели на нас как на чудаков, но в конце водосвятного молебна благодать и их сердец коснулась. В «Борисоглебском лете» я написал, что даже надеюсь темноволосую встретить в храме – она была посерьезнее. Прошло несколько лет. Темноволосую я так и не встретил, а вот ее легкомысленную рыжеволосую подругу неожиданно увидал прошлым летом здесь, на колодчике, и едва узнал. Она стала такая спокойная, светлая. Набрала воды из колодчика, молча посидела на лавочке, потом искупалась… Вот это был для меня праздник праздников: уж ее-то я никак не ожидал больше увидеть. Радость моя была такая небесная – ведь это на Небе больше радуются одному покаявшемуся грешнику, чем многим праведникам…
Вдруг откуда-то московская знакомая Наташа. Раньше я ее не видел. Да и не мудрено кого-то не заметить, когда две тысячи человек собрались вместе. Наташа смиренно: «Сергей Антонович, у вас в машине место найдется?» Говорю: «Пустая машина. Вот только я искупаться хочу…» Показал рукой: мол, очередь большая и ждать ей придется долго. Наташа радостно: «Ничего, я не тороплюсь». Потом понял: она хотела именно со мной ехать – поговорить ей надо было.
Стоим-стоим. Подходят три веселых мужичка. Оказывается, тоже впереди меня занимали. С шутками, с прибаутками они. Я откуда-то с детства знаю, что трепет в душе нужно беречь, не то останется душа сиротой, потому сразу вспомнил, что мои-то Марина с Алешкой уехали, не искупавшись, и всё равно их на днях сюда привезу. Решил сейчас не купаться, а потом вместе с ними; и Наташе тогда не придется томиться зря. В Кондакове спросил на автобусной остановке, не желает ли кто с нами ехать. Никто не откликнулся. Видно, надо было нам с Наташей поговорить по душам…
И вот едем. Вслух вспоминаем, как раньше после крестного хода возвращались с колодчика поздно вечером. В свете фар с дороги нехотя взлетали большие совы. Люди на дороге – все крестоходцы. Будто только они есть на белом свете! Так это было радостно. Около каждого останавливались, спрашивали, не случилось ли чего, не нужна ли помощь. Все благодарно отвечали, что просто остановились – неохота уезжать отсюда… Большинство ведь только через год приедут. Да и это неизвестно еще. Я, когда оказываюсь снова на колодчике, счастливо крещусь: слава Тебе, Господи – сподобил еще раз здесь побывать. Но в прошлые годы всегда у меня машина была набита битком. По два-три рейса делал из Кондакова в Борисоглеб. И вдруг я понял, что в этот раз вернулся в Кондаково только для того, чтобы увезти Наташу…
За окном проплывают наши просторы борисоглебские. На душе так же вольно, просторно, солнечно. Наташа спрашивает: «Сергей Антонович, как ваш Малыш поживает?» Когда услышала, что он умер, так разволновалась: «Как я вас понимаю… У нас с Таней тоже история произошла». Они живут вместе, две одинокие пожилые сестры. «С нами живет еще падчерица нашего брата. Раньше мы с ней всё никак не могли поладить. Часто гости у нее бывали. Шум, музыка громкая. А тут она еще как-то подобрала на улице щенка, и мы сказали, чтобы она его отнесла назад. У нас квартира-то освященная. Ну и сами знаете, наше священство не одобряет держать собак в квартире. В деревне в будке – пожалуйста. В общем, предъявили мы ей ультиматум, а она наговорила нам, что мы злые, бессердечные люди, что только прикидываемся верующими, и наотрез отказалась убрать щенка. Перестала даже здороваться с нами… Ну а потом задержится она вечером, а то и ночевать не придет. Что делать-то, жалко нам душу живую – начали мы щенка подкармливать, выводить на прогулку. Потом он вообще больше у нас стал жить. В общем, прямо сказать, полюбили мы его. И с племянницей с тех пор стали жить душа в душу. Она теперь нас уважает, музыку громко не включает, гости ее ведут себя культурно и сама к нам часто заходит… Но мы с сестрой всё же сомневаемся. Грешим мы или нет? Может, священника спросить?» Я сразу понял: главное, чего Наташа с сестрой боятся, это что священник может посоветовать убрать собаку из квартиры. Спрашиваю: «Наташа, а если он скажет отдать собаку? Отдадите вы ее?» Она виновато опустила голову: «Нет. Как же мы ее отдадим, когда она нам в дом мир принесла. Да и любим мы ее». Я с улыбкой заключил: «Ну и зачем тогда спрашивать? И не мучьте себя понапрасну. Всё вы правильно делаете – как сердце велит. Вы ее ведь не телятиной на фарфоре кормите!..» Наташа даже руками замахала: «Да что вы, да что вы…» Потом облегченно вздохнула: «Спасибо вам, Сергей Антонович. Мы и сами так думаем, но иной раз сомнение брало. Теперь на душе спокойно стало».
В селе Лехоть на дороге раздавленная кошка. Наташа болезненно сморщилась, а я сказал: «Слишком быстро ездят, торопятся туда, куда даже тихо ходить не надо…» Но в Борисоглебе, хотя мы-то ехали тихо-тихо, собачка под колеса так и лезла. Говорю: «Вот, Наташа, про собак поговорили, и сразу искушение. Где любовь, там всегда искушение». Наташа согласно кивнула головой.
***
На другой день Нина с Дашуткой уехали. На колодчик мы отправились только в среду. Мой дружок Саня отказался по-деревенски: «Когда мне?» У него огромный огород. Ему я уже не стал объяснять, что ничего за полдня с огородом твоим не случится, что с Божией помощью еще богаче урожай будет. Как-то уговорил одну знакомую и одного знакомого пойти в крестном ходе. Знакомую потом «Скорая помощь» увезла, а знакомый напился чуть не до бесчувствия… Нет, никого не надо силком тянуть даже в святое место… Взяли с собой старого товарища, пасечника Толю – он давно просил, чтобы я свозил его на колодчик. И уж Толя потом всё время восклицал: «Такой день сегодня! Такой день!» А ведь перед самым выездом его жена, не хотевшая, чтобы он ехал, не вытерпела, укорила: «На рыбалку со мной никак сходить не можешь, а тут мигом собрался…» Но Толя поехал.
В Кондакове оставили машину возле храма и пошли к колодчику пешком. Я люблю ходить к колодчику пешком. Полевая дорога. Вокруг море цветов. Когда к спуску в лощину подходишь, душа уже от просторов тихая, радостная… На этот раз за нами увязалась черно-белая собачка кондаковская. Опять напомнила Малыша, как все собаки борисоглебские, но и немного озадачила: в святом месте собакам делать нечего. Думаю, как бы так прогнать ее, не обидев. Она к нам всей душой… Но она вдруг обогнала нас и весело побежала вперед. Спустились в лощину. Глядим: собачка наша прыг в ручей возле купальни. Искупалась, выбежала на берег, встряхнулась и счастливая убежала наверх. Так Малыш радовался после купания в первом снегу. Я перекрестился: слава Богу…
Обычно Алешку я купал силой. Он всегда сначала храбрился, строго говорил мне: «Дедушка, я сам». Но, сойдя по ступеням лестницы до колен, выскакивал – вода-то ледяная. Даже некоторые взрослые не могут без крика окунуться. Завзятые паломники говорят, что только в Дивееве вода холоднее. Я же думаю, что у нас она не теплее. На этот раз Алешка, к моему великому изумлению, спустился и окунулся сам. И даже не забыл сказать: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Уже одеваемся, и он вдруг попросил: «Дедушка! Можно, я еще раз окунусь?» Хотел было разрешить, но вспомнил Ивана, владыку Евстафия, отца Павла: «Пока хватит, а на следующий год посмотрим».
Толя, в который раз выпив сладкой водички Иринарховой, блаженно говорит: «Спасибо отцу Иоанну. Не он, и не были бы мы тут». Алешка безо всякого принуждения, по своему почину, три раза попил воды из колодчика. Глядя, с каким наслаждением они пьют, я вспомнил, как однажды Марина, узнав, что братия монастырская во главе с игуменом Иоанном несколько ночей не спали – трудились на колодчике перед крестным ходом (с каждым крестным ходом местность здесь трудами монашескими преображается), пожалела их: «Батюшка, совсем вы тогда не спали». Он, как всегда, радостно ответил: «Зато сколько мы воды Иринарховой выпили».
Сидим, блаженствуем на лавочке подле колодчика. Он весь убран полевыми цветами. Из трубы чистая вода течет. Поет она, словно жаворонок в поднебесье… Вдруг Алешка говорит: «У нас сегодня седьмой день крестный ход». Мы просто замерли: как точно восьмилетний ребенок сказал. И не только потому, что венец крестного хода – купание, а мы только на седьмой день искупались, но потому, что все дни после крестного хода у нас с Мариной было такое чувство в душе, будто крестный ход продолжается… Оказывается, и у Алешки оно тоже было!.. Дивны дела Твои, Господи!
Уезжать всегда с колодчика уж так не хочется, так не хочется. Каждый раз я оттягиваю-оттягиваю расставание. Вдруг вспоминаю, что давно хотел, чтобы Толя, как пчеловод, объяснил Марине с Алешкой, что нельзя наших ос, поселившихся под крыльцом, убивать. Они несколько раз кусали Алешку, и Марина обижалась на меня, что я не хочу их убрать. Толя, как всегда, неторопливо рассказал, что у них в бане гнездо ос прямо над дверью, но они никого не укусили; что осы опыляют такие растения, которые никто больше не опыляет… Мариша виновато опустила глаза, и я успокоился: осы мои в безопасности.
***
После крестного хода прожили мы втроем в Старове-Смолине еще месяц, и я уже не говорил, что могу отправить Маришу с Алешкой раньше срока. Конечно, каждый день бывали на нашей реке Устье. Как-то искупались на «первом песочке». Есть у нас и «второй песочек», но почему его так назвали, непонятно: никакого песка там и в помине нет. Место, правда, очень красивое, но песка нет. Пошли вдоль берега, как обычно мы с Малышом ходили двенадцать лет. Возле наших ольховых деревьев я рассказал Алешке, что когда мы поселились в Старове-Смолине, то эти пять «сестренок» ольховых были ростом с него, немного больше метра, а теперь погляди, какие это большие деревья. Сорвали с них черные шишечки-сережки: если у Алешки опять живот расстроится, то заварим их…
С этих ольховых сестренок Мариша три прекрасных букета составила. И день тот, когда мы их собирали, запомнился на всю жизнь. Солнечный-солнечный весенний день. Малыш от счастья носится вокруг нас. Он так любил, когда мы гуляли втроем. Так он радовался, так сиял от счастья! Правда, Марина глядела невесело, даже пожаловалась, что ей жарко в пальто, неудобно в резиновых сапогах. Я же был счастлив не меньше Малыша и не разгневался как обычно, а грустно сказал: «Мариша, ты недовольна сейчас, а потом окажется этот день одним из лучших, из запомнившихся в жизни…» Марина, чтобы не портить нам с Малышом праздник, как всегда смирилась, взялась собирать букеты. День этот действительно мы запомнили на всю жизнь, и букеты будут стоять у нас, пока мы живы.
Идем. По левую руку островок, густо заросший травой. На нем утки гнезда вьют. Посмотрел я вдаль и вдруг на той стороне реки, за уремой (у нас в Забайкалье такие густо заросшие места называют урманом), где гнездятся на деревьях ястребы, увидал небольшую березовую рощу. Да такую прекрасную, что глаз не оторвать. Я просто опешил, не мог понять: как же это может быть, что я двенадцать лет ходил здесь чуть не каждый день и не увидал ее. Этого просто быть не может! Выходит, до крестного хода у меня другое зрение было?!
Удивился я вслух, а Мариша о главном заботится: «Алешка, а вот эта ольха твоя будет». Гляжу: на склоне берега маленькая, ростом с Алешку, ольха. Говорю: «Алешка, через десять лет она будет такой же большой, как “наши ольхи”, и ты тогда вырастешь большой». И обрадовался: как же Мариша хочет, чтоб Алешка был связан с Борисоглебом пожизненно. Значит, не зря мы с Малышом тянули ее в деревню, всегда ждали здесь. Правда, если бы не было Малыша, то Марина не дала бы мне столько лет прожить в деревне отдельно от нее, но Малышу было тяжело в Москве, а она его очень любила и потому смирилась с нашим деревенским житьем и много лет несла крест своего московского одиночества.
На прощанье я перекрестил «Алешкину ольху» и его попросил перекрестить ее: мол, тогда она уцелеет.
***
Мариша с Алешкой уехали в Москву, и так мне стало одиноко, что я несколько дней места себе не находил. Наконец собрался с силами и сел писать эту повесть. Вскоре настолько ушел в нее, что, забыв о своем позвоночнике, вытряхнул тяжеленный ковер, и всё мое здоровье мигом улетучилось. Правда, уже много лет, как сяду я писать, так сразу болезни навалятся. Но как в этот раз, никогда так тяжело не было. Бронхи заболели, аритмия такая, что спать не мог… Только вроде бы оклемался чуть-чуть, тут другая напасть. Как-то в обед сижу, читаю свои записи к «Крестному ходу» – и вдруг так дурно мне стало. Кое-как добрел до кровати и уже начал куда-то проваливаться, вдруг кто-то говорит во мне: «На дворе благодать: солнышко светит, небо синее-пресинее. Выйди, тебе станет лучше». Я про себя отвечаю: «Куда идти! Я лежу-то кое-как». А мне снова: «На дворе солнышко, небо синее-пресинее…» Думаю: а правда – сколько раз мне было «слава Богу, плохо», а пойдешь погуляешь, и всё «слава Богу, хорошо». Решил поехать на реку. Неимоверным усилием воли заставил себя встать, выгнал из двора машину, и вдруг откуда-то донесся родной свист! Малыш всегда, как птичка-невеличка, посвистывал – рассказывал о любви к нам, звал нас в зеленые луга за счастьем… Сразу я вспомнил, что не ходил сегодня к нему на могилку. Заглушил машину. На могилке совсем худо стало, и я понял, что не надо никуда ехать, а надо выйти на деревенскую улицу и походить по ней. Если упаду, то люди увидят – помогут. Иду мимо Лобановых и чувствую: сознание мутится, и ноги подкашиваются. У них телефон – можно «скорую» вызвать. Тетя Лида, душа сердобольная – все деревенские идут к ней давление смерить, врача вызвать, – сразу мне таблетку но-шпы, валидол под язык. И тут я начал падать. Слава Богу, рядом диван – успел на него себя направить. Тетя Лида кинулась звонить в «скорую». Я немного пришел в себя, и она мне говорит: «Только ты сам разговаривай, а то я уже надоела им со звонками – не поедут еще». В «скорой» выслушали меня и говорят: а Лене (это наш колхозный фельдшер) звонили? Не успел ответить, там то ли трубку бросили, то ли оборвалось. Стали звонить Лене. Она: «Машины нет, но я пешком пойду (это километров пять!). Может, и на попутке доеду». Лежу на диване, думаю: приедут, а меня дома нет, развернутся и уедут. На улице опять стало хуже, но гляжу: с дороги сворачивает «скорая», а из остановившегося грузовика Лена с чемоданчиком вылезает. Вся местная медицина на помощь ко мне прибыла. Особенно обрадовался нашей Лене. Сколько она пешком исходила, скольких людей спасла – она в болезнях-то получше многих врачей понимает. Ей и дома покоя нет: звонят днем и ночью. Это ее богоугодное служение – денег Лена не берет ни в какую! И ко мне она не раз приходила! Я включил ее в свой список и каждый день молюсь о ее здравии.
Только открыли мы дверь в дом, а Лена наша, жительница деревенская, так и ахнула: «Сергей Антонович, да у вас сплошной угар. Никакое у вас не давление (по телефону мы ей сказали, что у меня, видимо, давление), а вы угорели». Сразу открыла печную трубу, распахнула дверь. Диагноз Лена поставила, а борисоглебский врач только согласно кивнул, дал мне ватку с нашатырем, два укола сделал; выпил я несколько таблеток активированного угля… Потом пришли соседи мои дорогие – Алюшка с внуком Максимкой. До позднего вечера ухаживали за мной и всё удивлялись: как же это я надоумился выйти, обычно человек, когда угорает, то ложится, засыпает и всё… И я рассказывал, как кто-то сказал мне: «На улице благодать, солнышко светит…» Утром сразу поехал в монастырь. Выслушав меня, отец Иоанн без раздумий сказал: «Это милость Божия».
И Малыш, собачка моя рабочая, опять приложил свою лапку к моему спасению. Не пошел бы я на его могилку, а поехал бы на реку и там бы упал без сознания, а людей вокруг никого – глухая октябрьская пора. А если бы за рулем отключился…
Долго я еще потом болел, но на душе у меня светло-светло – я теперь часто вспоминаю, как вскоре после моего чудесного спасения отец Иоанн на проповеди, растолковывая главу из Евангелия про богача и нищего Лазаря, сказал: «Никто не пожалел Лазаря. Собаки оказались милосерднее людей: приходили, лизали струпья его», – и взглянул на меня. Словно руку протянул! Сколько же было у меня тогда радости! Да и теперь она меня не оставила…



















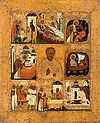

Взялся бы кто нибудь из .... этого источника (сайта), что по Преданию не так с собаками. Про святого Христофора я читал.
Простите меня пожалуйста.
Интересно вплетаются в рассказ судьбы знакомых, друзей, соседей и родственников.
Благодарю Ваш портал за публикацию таких литературных произведений.
С уважением Зинаида.