 Исаак Левитан. Цветущие яблони. 1896
Исаак Левитан. Цветущие яблони. 1896
Почему не радуется иной человек первому снегу, потокам весеннего света, запаху смолистых тополиных почек, птичьему гвалту, цветущим яблоням, потом – тем же яблоням, склонившимся под тяжестью плодов, и первым золотым вестникам листопада на тропинке? Вот дорога в степи, вот синий, как дионисиево небо, цветок у обочины, вон закатные облака, а среди них парит хищная птица, а это – наши сельские лошади на вечернем водопое. Столетняя береза у самого подъезда, одуванчик, проломивший асфальт, белка в городском парке, ежик на вечерней дачной тропинке. Человек все это видит… и не видит, поскольку нет в этом всем, с его точки зрения, ничего особенного, ничего нового и интересного.
Где найти слова для рассветного петушиного хорала?
И только в самой-самой глубине его души живет память о времени, когда он был другим – и поэтому другим был для него мир. Первый снег преображал землю и дарил чувство свободы, обновления, торжества. А для чувства, которое рождалось от сырого весеннего воздуха, от запаха прелой соломы и оттаявшего навоза – вообще никаких слов нельзя подобрать… А где найти слова для рассветного петушиного хорала? Для дыхания грозы после долгого сухого зноя, для первого желтого листка, тихо севшего на серую от старости доску садовой скамьи? Когда ты так жил, человек, когда так воспринимал мир? В детстве?.. Может быть, в детстве, а может быть, во взрослой уже жизни – в особые минуты или дни, которые у всех когда-то случаются…
 И помнит речка жизнь иную. Художник: Олег Молчанов
И помнит речка жизнь иную. Художник: Олег Молчанов
Но теперь мы с тобой другие. Мы скользим поверх мира, не питаемся, не обновляемся его красотой, богатством, его иррациональной чудесностью; не лечимся его обыкновенными чудесами от наших неизбежный скорбей. Мы почему-то уже заранее решили, что эти чудеса нам не помогут, поскольку они – вот именно – обыкновенные. Многие из нас испытывают эмоциональный голод, жажду впечатлений или, наконец, ту самую скуку: многозаботливая занятость от нее почему-то не помогает, разве что забыть о ней заставляет на какое-то время, а скука меж тем потихоньку иссушает душу. Иные из нас едут (или мечтают поехать) в дальние страны. Я не хочу сказать, что путешествие – это плохо!.. Плохо другое: когда человек не знает, насколько обогатила бы его вполне доступная поездка в недальний, незнаменитый старинный городок или просто прогулка по тому городу, в котором он живет, – если бы расстался этот человек со своим хроническим «Ничего особенного», говоря иначе, протер бы глаза.
Сквозь серую пленку безразличия видно плохо, и не только о природе здесь нужно речь вести, но и о красоте рукотворной, об истории, культуре… И об отношениях меж людьми. Человек перестает реагировать на другого человека, он не радуется тому, что этот другой делит с ним жизнь, не удивляется ему, не ценит его, не благодарит, наконец… Потому что и в нем тоже не видит ничего особенного, ничего нового. И от этого разрушаются семьи, одинокими (даже при внешней практической помощи – исполнении сыновьего или дочернего долга) оказываются старики, дичают и уходят от родителей едва подросшие дети.
Человек перестает реагировать на другого человека, не удивляется ему, не ценит его, не благодарит, наконец
Замутненное, поверхностное восприятие мира. Закрытость для его живой красоты. Отсутствие свежего взгляда, удивления, восхищения, интереса. Доминанта реакции – «Ничего особенного», «Ничего нового», «Я все это уже давно знаю». В терминальной стадии – безразличие к миру и скука… Это болезнь, корни которой, возможно, где-то глубоко в падшей нашей природе; а развивается она с возрастом. Мало кто ей не подвержен – хотя бы временами; мало кто совершенно от нее здрав. Просто один человек находит средства и борется с этой душевной хворью за живую и подлинную свою жизнь; и не тускнеет с возрастом для этого человека мир, а, напротив, расцветает. А иной человек – он то же самое нашел бы, если бы искал.
«Избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия» – повторяем мы каждый вечер вслед за Иоанном Златоустом. Нечувствие – отсутствие или притупленность душевной реакции на истины веры, на евангельские и апостольские слова, на смыслы церковной жизни, на красоту богослужения – пусть в разной степени, но грозит всем нам, коль скоро грозило святым. Мы с вами, кажется, воцерковленные люди, но не присуща ли нам реакция «я это уже знаю» или «так положено»? Если я это уже знаю – значит, от меня больше ничего не требуется. Если так положено – значит, это не ко мне обращено, это вообще не ради меня делается, а ради устава, традиции, порядка. Потому и скучаем мы в храме, и рассеиваемся, когда читаются часы, Шестопсалмие или кафизмы; потому и Апостол, и Евангелие скользят по поверхности нашего сознания: мы это уже читали, мы хорошо это место помним, что еще?.. Услышать сердцем, задуматься, измениться? Нам очень трудно, оказывается, сделать именно первое…
 В Новоспаском монастыре. Художник: Дмитрий Левин Почему принятая нами Истина о вочеловечивании Бога и Его добровольной Жертве ради нашего спасения не взрывает нас и не переворачивает в одночасье и необратимо? Мы в это уверовали, мы убеждены, что это правда… Почему же мы остаемся такими, как есть, теплохладными, рассеянными, приземленными… то ли верующими, то ли нет? Первые христиане принимали решение пойти за Него на мучительную смерть – за какие-то считанные часы. Мы за всю жизнь не можем решиться – просто предать Ему «самих себя, и друг друга, и весь живот наш», хотя слышим это за каждой литургией… Наверное, мы реагируем на эти слова как на что-то, что просто положено произносить – и в чем нет ничего нового.
В Новоспаском монастыре. Художник: Дмитрий Левин Почему принятая нами Истина о вочеловечивании Бога и Его добровольной Жертве ради нашего спасения не взрывает нас и не переворачивает в одночасье и необратимо? Мы в это уверовали, мы убеждены, что это правда… Почему же мы остаемся такими, как есть, теплохладными, рассеянными, приземленными… то ли верующими, то ли нет? Первые христиане принимали решение пойти за Него на мучительную смерть – за какие-то считанные часы. Мы за всю жизнь не можем решиться – просто предать Ему «самих себя, и друг друга, и весь живот наш», хотя слышим это за каждой литургией… Наверное, мы реагируем на эти слова как на что-то, что просто положено произносить – и в чем нет ничего нового.
Если попытаться конкретизировать, то причины «окамененного нечувствия», возможно, в грехе гордости, которая не дает человеку снизойти до «мелкого, обыденного, давно известного», а еще – в лени. А лень, как известно, – сиамский близнец уныния. Ведь именно уныние мы слышим в этом подковерном бормотании: «Ничего особенного, нового, интересного, все как всегда».
Не исключено, что причина еще и в ограниченности возможностей нашей высшей нервной деятельности: ведь грехопадение поразило всего человека, и дух его, и плоть. Нервная система стала уязвимой, болезненной, склонной к самозащите от всякой деятельности, к избеганию всякой перегрузки.
 Деревня. Художник: Алексей Ефремов
Деревня. Художник: Алексей Ефремов
А теперь давайте обратимся к полотнам художников – настоящих, конечно, в высшем смысле этого слова реалистов: в качестве примера можно было бы привести десятки имен ныне живущих мастеров – не говоря уж о классиках отечественной живописи. А ведь на полотнах большинства из них тоже, казалось бы, – ничего особенного! Ну, что такого необычного, невиданного на картинах Левитана, Поленова, Шишкина, Грабаря?.. Что изображают наши замечательные современники Олег Молчанов, Алексей Ефремов, Дмитрий Левин, Александр Кремер, Антон Овсяников, Татьяна Юшманова? Деревенские избы, березы, сосны, пруды и реки, церкви, улочки старинных городков, первый снег, весеннюю распутицу, цветение лета, стада коров. Старые вещи: керосиновые лампы, горшки, корзины, кофемолки, амбарные замки, кирзовые сапоги. Обычных людей: стариков и старух, мальчишек и девочек, рыбаков, пастухов, священников и студентов. Словом, все то, что мы, казалось бы, видели не раз и не два…
 Русский Север, село Ворзогоры. Художник: Татьяна Юшманова
Русский Север, село Ворзогоры. Художник: Татьяна Юшманова
Но настоящий художник показывает нам это так, что у нас замирает сердце. Каждое его полотно – открытие, проникновение в сокровенную красоту мира. Его живопись – работа сердца, дело любви: именно любовь позволяет каждый раз увидеть в зримом – незримое. Художники лечат нас от болезни нечувствия. Нечувствие преодолевается любовью, творческим трудом, а еще – смирением: подлинный художник-реалист смиренно следует реальности мира, не ломая ее, не противопоставляя ей свое «я». Осознанно или подсознательно, он преклоняется перед ее Творцом и свидетельствует о Нем; это, при всей разнице приемов, роднит пейзажную живопись с иконописью. Разумеется, стать живописцем или поэтом может не каждый, это требует дарования: но к внутреннему духовному труду способен – и, безусловно, призван! – каждый человек.
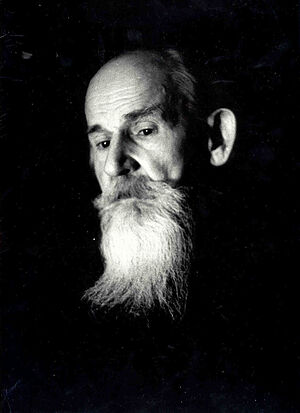 Борис Шергин «На рассвете брателко, уходя, развесил мне оконце. И, лёжа, вижу золотящуюся от солнца весеннего стену и голубого неба кусок И уж знаю себя лежащим в красе Божьего мира, в радости весны.
Борис Шергин «На рассвете брателко, уходя, развесил мне оконце. И, лёжа, вижу золотящуюся от солнца весеннего стену и голубого неба кусок И уж знаю себя лежащим в красе Божьего мира, в радости весны.
Неважно, о, как неважно, что телёшко моё в подвале, что кругом ‟пыль да копоть и нечего лопать”. Это не загораживает сейчас утреннюещей мысли. Закоптелый потолок не помеха. Мысль радующаяся летает, как ласточка. В Божьем мире нигде ей не загорожено.
Открыл глаза, увидел стену дыма в солнце и небо мартовское – и к стене повернулся. Богач. Божье богатство споро. Се, Бог в оконце мартовской весны подал. И Божий дар, как дрожжи в человеке. Крылата душа человека. Летаю, вижу елие столетнее, но и ручьи небес горние вижу над моими горами хотьковскими, и перелески. И дороги и… нигде не загорожено.
Какой пустяк, что носом в саженной приступок упираясь лежу, что в саже и паволока. Вторая седмица Святых постов. Какая радостная одежда у этих дней-иноков! Какая радостная печаль! В марте всегда Великий пост, и всегда дни эти одеяны блистаньем начинающейся весны, солнечного голубого неба; говор вод, шёпот капелей…».
Главное, что понимаешь, когда читаешь Шергина, – что такое состояние духа требует чистоты сердца и смирения
Это из дневников Бориса Викторовича Шергина[1], 1943 год. Он вел записи почти всю жизнь, пока окончательно не ослеп; и весь этот огромный корпус – три тома полного собрания – вопреки всей той скорби, горечи, которой в жизни этого помора и москвича оказалось с избытком – пронизан светом любви, полон восхищения, преклонения перед красотой тварного мира, перед духовными красотами Православия, перед историей и культурой Русского Севера. Вот кто, действительно, по слову поэта Николая Заболоцкого, не позволял душе лениться… Но главное, что понимаешь, когда читаешь Шергина, – что такое состояние духа требует чистоты сердца и смирения. Не идеальности, не безупречности, нет – Борис Викторович и сам немало бранит себя на своих страницах, – а именно смирения, открытости пред Отцом.
 Прошлое. Художник: Татьяна Юшманова По своему личному опыту могу сказать, что от нечувствия нас нередко лечит лишение, скорбь. Когда я оказалась в трудной ситуации, когда возраст и болезни близких, их фактически инвалидность связали меня по рукам и ногам, лишили возможности путешествовать по любимой старинной России – я научилась любить каждый дикий придорожный цветок, каждый подсолнух в деревенском палисаднике, каждую птаху, бабочку, вокалистку-лягушку в сельском пруду. Я начала ценить и уважать людей, которые казались мне ранее обыкновенными и не столь уж интересными. В степном селе, где мне поневоле приходилось проводить много времени, нет постоянно действующего православного храма, есть лишь две приспособленных комнаты в здании администрации; и священник приезжает нечасто. Мы стали сами собираться по праздникам, в дни особо почитаемых в народе святых – молились, читали жития и акафисты, беседовали. Поначалу нас оказалось немного. Но в тех, кто каждый раз и в любую погоду приходил в наше более чем скромное помещение, нельзя было не увидеть благоговения, уважения ко всему, что связано с Церковью, стремления жить по-христиански, несмотря на «отсутствие условий». Когда я узнала, что две пожилые женщины приезжали из соседнего села, заказывая такси, а это совсем не дешево, – я едва не разрыдалась…
Прошлое. Художник: Татьяна Юшманова По своему личному опыту могу сказать, что от нечувствия нас нередко лечит лишение, скорбь. Когда я оказалась в трудной ситуации, когда возраст и болезни близких, их фактически инвалидность связали меня по рукам и ногам, лишили возможности путешествовать по любимой старинной России – я научилась любить каждый дикий придорожный цветок, каждый подсолнух в деревенском палисаднике, каждую птаху, бабочку, вокалистку-лягушку в сельском пруду. Я начала ценить и уважать людей, которые казались мне ранее обыкновенными и не столь уж интересными. В степном селе, где мне поневоле приходилось проводить много времени, нет постоянно действующего православного храма, есть лишь две приспособленных комнаты в здании администрации; и священник приезжает нечасто. Мы стали сами собираться по праздникам, в дни особо почитаемых в народе святых – молились, читали жития и акафисты, беседовали. Поначалу нас оказалось немного. Но в тех, кто каждый раз и в любую погоду приходил в наше более чем скромное помещение, нельзя было не увидеть благоговения, уважения ко всему, что связано с Церковью, стремления жить по-христиански, несмотря на «отсутствие условий». Когда я узнала, что две пожилые женщины приезжали из соседнего села, заказывая такси, а это совсем не дешево, – я едва не разрыдалась…
Ну, а когда мне все же удавалось попасть в настоящий храм, молиться за всенощной, участвовать в литургии, причащаться Святых Таин… Как ни далека я от совершенства, могу сказать, что раньше, когда это не было для меня проблемой – пойти в церковь на службу, – таких чувств и состояний я не испытывала. И не благодарила Бога так, как благодарю сегодня.
Нечувствие – отсутствие благодарности, отсутствие благоговения и преклонения. А когда пробивается сквозь эту серую кору чувство, оно всегда – благодарность.









