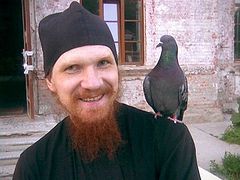Схима, высшая ступень православного монашества, подразделяется на малую и великую. Еще эти монашеские ступени называют малый ангельский образ и великий ангельский образ. Почему же их именно так называют, нам в рубрике «Толковый словарь» поможет понять греческий язык.
Вообще система монашества в Православной Церкви имеет тройственную структуру. То есть, монашеский постриг делится на рясофор, малую схиму (мантию) и великую схиму. Если говорят про схиму без уточнения, то имеют в виду как раз великую схиму.
Итак, схима с ее двумя ступенями, низшей и высшей, следует сразу после рясофора (по-гречески это слово означает «носящий рясу») или послушника. Когда постригают в рясофора, то читают определенные молитвы и крестообразно постригают волосы, при этом постригаемый не дает монашеских обетов и порой даже не меняет имени. Теперь его зовут рясофорным монахом или иноком. На этой ступени он готовится к принятию малой схимы.
Как говорили святые отцы, постриг в рясофора можно сравнить с записью в войско Небесного Царя и беспрестанным изучением боевого дела для будущих походов и сражений. Рясофорному монаху, как следует из самого названия, дозволяется носить рясу и камилавку. Ряса (дословно по-гречески это слово значит «вытертая», «поношенная»), повседневное длиннополое одеяние черного цвета с широкими рукавами и наглухо застегнутым воротом, символизирует отречение от мира, плач и покаяние.
Постригаемый же в схиму (сначала малую) дает обеты послушания, нестяжания и девства, и получает новое имя. Ему дозволяется носить мантию (длинную, до земли накидку без рукавов, которая покрывает рясу), отчего малая схима еще называется мантией. Также облачение малосхимника состоит из рясы, парамана (особый четырехугольный плат), клобука на голове, четок и особой обуви – сандалий. Постригаясь в малую схиму, монах вступает на путь строгого аскетизма.
Самая же высшая ступень, великая схима, означает как можно более полное, предельное отчуждение от мира и отвержение его ради соединения с Богом. Схимники еще раз дают те же обеты, но в более строгой форме, что обязывает их к еще более строгому соблюдению, и им еще раз меняют имя. Так у схимников становится больше небесных покровителей, святых.
Схимники в монастырях обычно живут отдельно от других монахов и не имеют никаких послушаний кроме служения литургии и духовничества. Епископы-схимники складывают с себя управление епархией (тогда их называют схиепископы), монахи-священники тоже освобождаются ото всех других обязанностей. Великосхимники или просто схимники носят рясу, аналав (особый параман), куколь (остроконечную шапочку с крестами), мантию, чётки, сандалии, пояс, хитон.
Таким образом, православное монашество невозможно представить без его высшей степени – великой схимы. По мысли святых отцов, великий схимнический образ — это и есть самая-самая вершина монашества… «Принятие схимничества, или великой схимы, — по пониманию Церкви, — есть не что иное, как высшее обещание Креста и смерти, есть образ совершеннейшего отчуждения от земли, образ претворения и преложения живота, образ смерти и предначатия иной, горней жизни».
Интересно посмотреть, как о трех ступенях монашества писал преподобный Нил Мироточивый:
«Принятие рясофора есть вписание себя в войско и беспрестанное изучение боевого дела.
Мантия же есть выступление в поход, подобно тому, как при наступлении войны войска выступают на войну и шествуют военным походом.
Принятие же великого образа схимы есть вступление в решительное сражение, когда войска достигнут места боя и приведут себя в полную боевую готовность».
Но почему же схиму называют ангельским образом, малым или великим? Дело в том, что древнегреческое слово τό σχῆμα (shēma) означает вид, образ, фигуру и т.д. От него произошло и всем известное слово «схема». В данном случае же имеется в виду, что постригающиеся в малую или великую схиму приобретают вид или образ ангела, поскольку умирают для мира ради единения с Богом. Принесение ими обетов и следование им можно метафизически толковать так, что они призваны стать своего рода бесплотными ангельскими «схемами» или образами.
И еще одна интересная словесная и смысловая перекличка. Слово τό σχῆμα является однокоренным с глагольной формой σχεῖν, образованной от глагола ἔχω – иметь, сдерживать. Получается, что схема – это некий остов, сдерживающее или все держащее на себе начало. И о том, что схима является великим удерживающим средством от греха, писал тот же Нил Мироточивый:
«Воину, ради воинства его, присваивается право на ношение великолепных царских доспехов, которыми царь благоволил украсить войско свое; воин, видя себя украшенным царскими доспехами, очень бережется, чтобы не опозорить царских доспехов, чтобы не прикоснуться к чему-либо, от чего могли бы они запятнаться, дабы не подвергнуться Страшному Суду и не услышать страшного гласа Судящего: “Рабе лукавый и ленивый! – где одежда брачная?” Точно так же и монах, препоясанный обетованным спасением и благолепием веры, во все продолжение монашеской жизни или монашеского подвига весьма остерегается злых дел, дабы не опозорить ими своего крещения и не запятнать Великой Ангельской схимы.
Человек покусился бы сделать тысячи и тьмы зол, но, при воззрении на свою схиму, удерживается от многих грехов, вспоминая, что дал обет и не может его нарушить… Поэтому-то я и говорю тебе: не снимай с себя схимы, дабы не овладели тобою противники твои и не стать тебе пищею великого отступника».