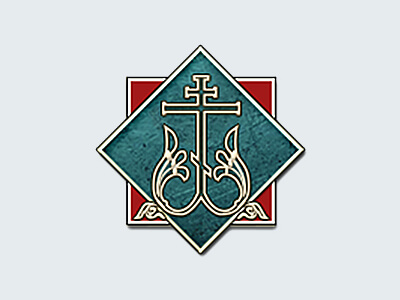Сайт «Православие.Ru» продолжает публикацию фрагментов книги церковного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской».
 Папа Лев IX. Мозаика Гогенбургского монастыря (Сент-Одиль), Франция
Папа Лев IX. Мозаика Гогенбургского монастыря (Сент-Одиль), Франция
Предыдущие фрагменты:
- Папство в последней трети X века
- Период порнократии в истории папства
- Русский мир первой половины XI века
- Церковь в правление великого князя Ярослава Мудрого
- Правление Великого князя Ярослава Мудрого
По указанию Императора Генриха III на Соборе в Вормсе в декабре 1048 г. Папой был избран его двоюродный дядя, епископ лотарингского города Туля Бруно из рода графов Эгисхайм-Дагсбургских. Он родился 21 июня 1002 г. в эльзасском городе Эгисхайме. Вступив в молодости на стезю церковного служения, Бруно был хиротонисан в епископа в 25 лет, обнаружив административные способности, сильную волю, незаурядную ревность в заботе о повышении образовательного уровня своего клира и об очищении подведомственного духовенства от лиц, погрязших в пороках.
Избранный Папой по воле Императора, Бруно настоял на том, чтобы его избрание было подтверждено согласием римского духовенства и народа
Избранный Папой по воле Императора, Бруно настоял на том, чтобы его избрание было подтверждено согласием римского духовенства и народа. Император не возражал. По замечанию Ф. Грегоровиуса, тем самым
«Бруно как бы предавал осуждению несогласную с каноническими правилами императорскую диктатуру, и с того момента свобода папского избрания стала целью постоянных стремлений Церкви»[1].
И вот, как пишет тот же историк Рима,
«в феврале 1049 г. новый Папа вступил в Рим в сопровождении лишь небольшой свиты и шел по городу босой, смиренно читая молитвы… Казалось, в город, в котором снова утвердилось варварство, пришел апостол»[2].
Театральные жесты были во вкусе римлян; на соcтоявшемся в Вечном городе конклаве Бруно был избран единогласно, и 12 февраля состоялась его интронизация с именем Лев IX.
Саксон Анналист писал о Папе в стиле агиографического панегирика:
«Мы читали о нем, что когда бедняк прокаженный постучал в ворота его дома, он заботливо обогрел его и накормил, а затем уложил в свою постель; утром, открыв дверь, он не нашел его и изумился, ибо понял, что принимал под видом бедняка Самого Христа. Этот во всех отношениях ученейший муж сочинил песню приятного и правильного ритма о некоторых святых, а именно: о Папе Григории, мученике Кириаке, мученике Горгонии и прочих. Он сделал и написал также много другого, полезного Церкви»[3].
Став Папой,
«высокий, рыжеволосый, выглядевший как настоящий воин, эльзасец – он фактически командовал армией во время одного из походов Конрада II в Италию, – продемонстрировал качества настоящего лидера, которого Церковь давно ожидала. До сей поры папство оставалось по преимуществу римским институтом; Лев IX сделал его поистине интернациональным. Он все время был в разъездах, путешествуя то по Южной Италии, то по Франции и Германии, председательствуя на синодах, яростно обличая симонию и браки священников, проводя роскошные церемонии и проповедуя перед огромными толпами. Благодаря ему папство заняло в Европе положение, какого не имело прежде ни при одном понтифике»[4].
«Благодаря ему папство заняло в Европе положение, какого не имело прежде ни при одном понтифике»
При нем радикально изменился национальный состав курии. Прежде в ней состояли почти исключительно итальянцы, и среди них по преимуществу римляне. Лев IX призвал в Рим своих земляков. Двое из них впоследствии стали Папами: возведенный Львом в кардиналы Гильдебранд (Григорий VII) – один из самых масштабных по своему влиянию на ход мировой истории понтификов – и Фридрих Лотарингский (Стефан IX), который ко времени восшествия Льва на Римский престол совершал свое служение в Италии, в должности аббата монастыря Монте-Кассино.
Лев
«созывал Соборы, чтобы бороться с симонией и внебрачным сожительством духовенства… Описатель нравов, если бы он только пожелал спуститься в клоаку, которую представлял собою быт римского духовенства того времени, не нашел бы недостатка в доказательствах всей порочности этого духовенства; для этого достаточно заглянуть в книгу Gоmorrhianus Петра Дамиани… И, однако, Ваал Содома и Гоморры едва ли представлял для Церкви больше опасности, чем Симон Волхв, так как последний подчинял духовенство светской власти, от которой оно получало за деньги свой сан»[5].
Папа предпринимал решительные меры для обуздания симонии не только в Риме и Италии, но и в других странах Запада.
 Генрих I, король Франции. Картина М.-Ж. Блонделя (1837 год) В самом начале понтификата он вступил в конфликт с Французским королем Генрихом I. Пружиной противостояния был потрясавший христианский Запад вопрос об инвеституре, иными словами, о том, кому по преимуществу должна принадлежать власть поставлять епископов – монарху или Папе. Симония служила одним из инструментов подчинения епископов светской власти, носители которой часто прибегали к продаже церковных должностей епископов и аббатов.
Генрих I, король Франции. Картина М.-Ж. Блонделя (1837 год) В самом начале понтификата он вступил в конфликт с Французским королем Генрихом I. Пружиной противостояния был потрясавший христианский Запад вопрос об инвеституре, иными словами, о том, кому по преимуществу должна принадлежать власть поставлять епископов – монарху или Папе. Симония служила одним из инструментов подчинения епископов светской власти, носители которой часто прибегали к продаже церковных должностей епископов и аббатов.
Когда в стремлении сломать эту порочную практику Лев в 1049-м г. созвал Собор в Реймсе, король Генрих запретил епископам Франции участвовать в нем, зная о намерении Папы принять на этом Соборе решительные меры против симонии. Одни епископы подчинились королю, но около 20 других прибыли в Реймс. На заседании Собора Лев IX потребовал, чтобы его участники объявили, давали ли они деньги в королевскую казну
«…при своем поставлении на должность. Призналось не менее пятерых… Одного из них… Архиепископа Реймсского вызывали в Рим, чтобы он там защищал себя. Другого, епископа Нантского, который наследовал собственному отцу в своем диоцезе, лишили духовного сана… епископ Лангрский бежал и был отлучен от Церкви. Архиепископ Безансонский, пытавшийся защитить его, в буквальном смысле был поражен немотой при произнесении своей речи»[6].
Папа принимал меры к повсеместному введению обязательного целибата для клириков всех степеней
Лев IX оказывал всяческую поддержку шестому аббату бенедиктинского монастыря в Клюни – Гуго, который в его понтификат возглавил обитель молодым монахом 25 лет от роду, став вскоре самым видным деятелем охватившей Запад Клюнийской реформы, нацеленной на очищение нравов духовенства, на борьбу с симонией и на отстаивание независимости Церкви от светских властителей. Папа принимал меры к повсеместному введению обязательного целибата для клириков всех степеней.
Выходец из среды германской аристократии, он не был чужд политических интересов, из которых главный направлен был на юг Италии, политическая карта которой представляла пеструю мозаику из владений Ромейской империи, княжеств, в которых правили династические потомки лангобардов, фактически независимых городских общин на морском берегу и, наконец, территорий, подвластных норманнским феодалам – франкоязычным выходцам из Нормандии, имевшим скандинавские корни, но давно забывшим язык своих северных предков. Папа поддерживал претензии Императора Генриха III на верховную власть на юге Италии, с тем чтобы в административном порядке эти земли были включены в папскую область – патримонию апостола Петра.
Как заправский генерал, возглавил поход на юг Апеннинского полуострова, командуя армией из германских наемников
Главным врагом папского престола Лев считал норманнов, в которых он, несмотря на то что они были христианами, видел чужеземных разбойников, и как заправский генерал возглавил поход на юг Апеннинского полуострова, командуя армией из германских наемников, которых он сам привел в феврале 1053 г. из-за Альп. В Кампании и Апулии к папскому войску присоединились дружины нескольких лангобардских герцогов. Надежда понтифика, что в войне с норманнами примут участие и ромеи, не оправдалась. В Константинополе видели угрозу ромейскому присутствию на юге Италии со стороны не только норманнов, но и территориальных амбиций Германской империи и папского престола.
Решающее сражение в этой войне произошло 15 июня 1053 г. близ города Чивита. У его стен норманнская конница из 3000 всадников разгромила значительно превосходившую ее числом папскую армию. Большая часть германских наемников, в основном набранных в Швабии, пала на поле битвы. Город Чивита, где находился Лев IX, подвергся осаде, и Папа, утратив надежду на благоприятный для него исход войны, вступил в переговоры. Их результатом стал его почетный плен. Норманнские военачальники обращались с ним в ходе переговоров как с верховным пастырем,
«преклонили колена пред своим пленником и целовали его апостольские ноги… Два дня провел опечаленный Папа в молитвах об умерших и затем велел предать тела их торжественному погребению. Биограф Льва, правда, удостоверяет, что Папа был утешен, когда увидел трупы своих воинов нетронутыми, между тем как у убитых норманнов глаза были выклеваны воронами»[7].
Лев оставался в плену в Беневенте до марта 1054 г., пока он не признал право норманнов владеть теми территориями, которые они завоевали.
Местью ромеям за их неучастие в войне с норманнами стало предпринятое Папой искоренение византийского обряда в грекоязычных приходах Южной Италии, находившихся на территории, которая не контролировалась Новым Римом. Ответом на эту акцию стало закрытие латинских церквей в Константинополе по указанию Патриарха Михаила Керулария.
 Михаил Керуларий (миниатюра из хроники Иоанна Скилицы)
Михаил Керуларий (миниатюра из хроники Иоанна Скилицы)
Епископу Транийскому Иоанну, одному из греческих архиереев юга Италии, состоявших в юрисдикции Константинопольского Патриарха, Михаил направил послание, в котором предостерегал его от проникновения в подведомственные ему приходы и монастыри и другие епархии юга Италии латинских обрядов и заблуждений латинского богословия, которые следовало бы устранить и из латиноязычных церквей:
«Великая любовь и искреннее расположение, – писал он, – побудили нас писать к твоей святости, а чрез тебя ко всем вождям священства, священникам франков, монахам, народам и самому достопочтеннейшему Папе»[8].
В конце послания Патриарх Михаил просил разослать его «вождям священства (и Папе) и простым священникам… чтобы они и сами исправились, и исправили народ Божий»[9]. Узнав о содержании этого послания, Папа Лев был до крайности возмущен как его содержанием, так и еще больше его тоном, не допуская и тени сомнения в беспрекословном учительном авторитете римских понтификов.
 Папа Лев IX В самом конце 1053 г. он, находясь в ту пору в плену у норманнов, направил послание Патриарху Михаилу Керуларию, содержание которого, свидетельствуя о фантастическом историческом невежестве курии, замечательно воспроизводит как догматические заблуждения латинского богословия, так и притязания Римского престола на неограниченную власть над Церковью, от которых прямая дорога ведет к учению о папской непогрешимости, сформулированному 8 столетий спустя на I Ватиканском Соборе.
Папа Лев IX В самом конце 1053 г. он, находясь в ту пору в плену у норманнов, направил послание Патриарху Михаилу Керуларию, содержание которого, свидетельствуя о фантастическом историческом невежестве курии, замечательно воспроизводит как догматические заблуждения латинского богословия, так и притязания Римского престола на неограниченную власть над Церковью, от которых прямая дорога ведет к учению о папской непогрешимости, сформулированному 8 столетий спустя на I Ватиканском Соборе.
Послание, послужившее богословским прологом к разрыву канонического общения между Православной Церковью и Западом, заслуживает поэтому пространного цитирования:
«Ты, возлюбленный наш и еще нарицаемый во Христе брат и Предстоятель Константинопольский, – пишет Лев IX, – с небывалою дерзостью и неслыханною смелостью осмелился осуждать явно Апостольскую и Латинскую Церковь, – и за что же? За то, что она совершает воспоминание о страданиях Господа на опресноках. Вот неосмотрительная брань ваша, вот недобрая хвастливость ваша, когда вы, полагая, что уста ваши на небеси, в сущности своим языком пресмыкаетесь по земле, и силитесь человеческими доводами и умствованиями извратить и поколебать древнюю веру… Вот уже почти 1020 лет прошло с тех пор, как пострадал Спаситель, и неужели вы думаете, что только теперь от вас Римская Церковь должна учиться, как совершать Евхаристию, как будто бы ничего не значит, что здесь в Риме пребывал, обращался продолжительно, наставлял и, наконец, смертью своею прославил Бога тот, кому Господь сказал: ‟блажен ты, Симон, сын Ионин” (Мф. 16, 17)… В Петре замечательно в особенности то, что тень его тела доставляла здравие немощным. Никому из святых не было дано такой силы; даже Сам Святый святых от Своего святейшего Тела не подавал дара исцеления; но своему Петру одному даровал эту привилегию, дабы тень от тела его врачевала больных… Никто не может отрицать, что как крюком (cardo) управляется вся дверь, так Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей Церкви. И как крюк водит и отводит дверь, сам оставаясь неподвижным, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой Церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояния; ибо высшая кафедра ни от кого не судится (summa sedes а nemine judicatur»[10].
Вот еще особенно яркие перлы из этого послания:
«Слепцы вы, бесстыдные гордецы!.. Вы произносите суд над тою кафедрою, которую ни вам и никому из смертных… судить не позволено... Св. Римская и Апостольская кафедра, после Господа Иисуса, есть глава всех Церквей Божиих... Не плюй выше своей головы, иначе тебе же попадет в лицо. Так-то вы, по своей надутости осмелившись подвергать осуждению (praеjudicum) верховный престол Римский, под которым никакой смертный не смеет произносить суда (facere judicium), сами подверглись анафеме всех вселенских отцов на всех святых Соборах. Вы хуже старинного вещуна Валаама: его не могли склонить к проклятию Израильтян ни обещания, ни угрозы Царя Моава (ср. Чис. 23); a вас, напротив, ни любовь к Богу и ближнему, ни уважение к божественным канонам, ни запрещение православных, как y вас говорится, Царей ваших, – ничто не удерживает от анафематства, коим вы обременяете род избран, царское священство (Sacerdotium), язык свят (1Пет. 11, 2)»[11].
 Константин I ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр I — фреска капеллы Сан-Сильвестро в римском монастыре Санти-Куаттро-Коронати. До 1247 года
Константин I ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр I — фреска капеллы Сан-Сильвестро в римском монастыре Санти-Куаттро-Коронати. До 1247 года
Лев IX обильно цитирует в своем послании «Дар Константинов» – фальсификат, составленный в королевстве франков при Карле Великом, вероятно, искренне принимая его по причине царившего в ту пору на Западе невежества за чистую монету, и пишет, что Император Константин
«почитал до крайности нелепым – земному владычеству подчинять тех, кого Божественное величество поставило над небесным. И что значит земное владычество над небесным? – ничего: vanitas vanitatum (гл. 12)! Покайтесь же, – призывает он своих адресатов, – оставьте все ваши безрассудства, и латинян, истинных католиков, этих самых близких и любезных (familiares) учеников Петра, этих усерднейших последователей его учения, перестаньте в насмешку называть азимитами, если хотите ныне и всегда иметь мир и участие с Петром...»[12].
И, наконец, автор послания выражает свое твердое убеждение в том, что
«греки, прежние и нынешние, – сущие еретики, тому служит неопровержимым доказательством все, от начала до конца, Первое послание ап. Павла к Коринфянам»[13].
Затем Папа воспроизводит злополучный фальсификат Donatio Constantini, выдавая его за подлинный акт Императора, вероятно, и сам нисколько не сомневаясь в его подлинности:
«Мы сочли полезным, мы вместе со всеми нашими правителями, сенатом, вельможами и народом Римским, чтобы, подобно тому как св. Петр был наместником Сына Божия на земле, так и первосвященники, наследники князя апостолов, удерживали власть начальственную – и даже полнее, чем как это свойственно земному императорскому достоинству. Именно им определяем благоговейно почитать, как наше земное императорское могущество, так точно и святейшую Римскую Церковь, и, дабы полнее возвысить кафедру над нашим собственным земным троном, приписываем ей власть, достоинство и честь царскую. К этому же определяем, чтобы кафедра Петра имела главенство над четырьмя кафедрами – Александрийскою, Антиохийскою, Иерусалимскою и Константинопольскою – и так же над всеми Церквами во вселенной; Первосвященник этой Римской кафедры во все времена должен считаться выше и славнее всех священников всего мира, и в отношении к вопросам богослужения и веры суд его да господствует над всеми… Уступаем самим св. апостолам, блаженнейшим Петру и Павлу, а чрез них отцу нашему Папе Сильвестру и всем преемникам его, какие только будут на кафедре Св. Петра до скончания веков, – дворец Латеранский, который превосходит все дворцы в мире. Передаем Римскому Папе диадему, т. е. корону, с своей собственной головы, нарамники, которыми украшается выя императорская, пурпуровую хламиду, багряную тунику и все другие царственные одежды, – вручаем ему императорский скипетр и все другие знаки отличия и перевязи, – словом, все принадлежности царского величия… Почтеннейших клириков всякого чина, состоящих в служении Римской Церкви, мы возводим на такую же высоту власти и блеска, на какой находится наш сенат, и определяем, чтобы они украшались, как украшаются наши патриции и консулы. Словом, как украшена императорская свита, так и клир Римской Церкви. И как при императорском достоинстве состоят различного рода прислужники – постельничьи, придверники и стража, тоже должно быть и в Св. Римской Церкви. И еще: для несравненно большей блистательности папского достоинства, пусть клирики ездят на лошадях, украшенных чепраками и белейшими тканями, и пусть носят точно такую же обувь, какую употребляют сенаторы. И таким образом небесная (т.е. папская) власть, подобно земной (т.е. императорской) власти, да украсится во славу Божию… Дабы первосвященническая власть не оскудевала, но процветала более самой власти императорской, мы определили передать отцу нашему Сильвестру, кроме дворца Латеранского, – город Рим, провинции Италии и всех западных стран, и все места и города в них – в полное распоряжение и власть»[14].
 Грамота Льва IX, 1051 г. Комментируя этот курьезный документ, А. П. Лебедев писал:
Грамота Льва IX, 1051 г. Комментируя этот курьезный документ, А. П. Лебедев писал:
«В нем ясно отобразились почти все самые странные и причудливые притязания средневекового папства. Нужно было пастырям Церкви Константинопольской быть постоянно настороже, чтобы сети папские не опутали и Восточной Церкви. Патриарх Михаил был верен этой задаче»[15].
Ранней весной 1054 г. Папа направил в Константинополь делегацию во главе с кардиналом Гумбертом. С ним отправились в путь архиепископ Амальфитанский Петр и канцлер Римской Церкви в диаконском сане Фридрих (впоследствии Папа Стефан). Вскоре после этого, 10 апреля 1054 г., Лев IX умер.
Первым делом папские посланники нанесли визит Императору. Страдая от мучительных приступов подагры, Константин Мономах принял гостей со свойственным ему искренним радушием. Патриарх Михаил созвал синод эндимуса, для участия в котором были приглашены папские легаты. На этом синоде легаты вели себя бесцеремонно. Уклонившись от приветствия, с которым, по традиции, они должны были обратиться к Патриарху, легаты вручили ему послание, по их словам, принадлежащее Папе Льву, в то время уже покойному. Ознакомившись с ним, Патриарх
«заметил, что в нем подменена папская печать и что само послание не есть подлинное послание Папы Льва IX, а письмо подложное. Тотчас же объявил он свои подозрения Собору, и, не обинуясь, сказал легатам, что они письмо, писанное не Папою, выдают за папское»[16].
Договориться о восстановлении нормального канонического общения не удалось
Легаты с видом оскорбленной невинности покинули синод, и, созванный исключительно ради переговоров, он был закрыт Михаилом Керуларием.
Договориться о восстановлении нормального канонического общения не удалось. Прежде чем отправиться в обратный путь, кардинал Гумберт совершил деяние, последствия которого повлияли на ход мировой истории, спровоцировав раскол, названный «великим». В субботний день 16 июля, в третьем часу, легаты во главе с Гумбертом вошли в храм Святой Софии, в котором тогда находились духовные лица и верующий народ и, проникнув в алтарь, положили на престол грамоту экзотического содержания:
«Св. Римская первая апостольская кафедра, которой, как главе, принадлежит попечение о всех Церквах, ради церковного мира и пользы, благоволила послать нас, легатов своих, в этот царствующий град, чтобы мы пришли и узнали, справедлив ли тот слух, который беспрестанно доходит до ушей её из сего города, или же нет… Что же касается до Михаила, неправо называемого Патриархом, и сообщников его глупости (stultitiae), то ежедневно в его среде рассеиваются здесь множественные плевелы ересей. Именно, подобно симонианам, они продают дар Божий, подобно валезианам, оскопляют пришельцев, и, однако, делают их не только клириками, но и епископами. Подобно арианам, перекрещивают крещенных во имя Св. Троицы, в особенности латинян. Подобно донатистам, утверждают, что во всем мире, за исключением Церкви Греческой, погибли и Церковь Христова, и истинная Евхаристия, и Крещение. Подобно николаитам, позволяют браки служителям алтаря. Подобно северианам, злословят закон Моисеев. Подобно духоборцам, отсекают в Символе веры исхождение Духа Святого и от Сына. Подобно манихеям, между прочим, считают квасное одушевленным. Подобно назореям, наблюдают телесные очищения иудейские, – новорожденных детей не крестят ранее восьми дней по рождении, родительниц не удостаивают Причащения, и, если они язычницы, отказывают им в Крещении. Относительно этих заблуждений и многих других сам Михаил, вразумляемый письмами Папы Льва, не образумился. Поэтому мы, легаты, не снося несправедливости и оскорбления, допущенного касательно первой апостольской кафедры, властью Святой и Нераздельной Троицы и апостольской кафедры, всех св. отцев, бывших на семи Вселенских Соборах, произносим анафему на Михаила и его сообщников, если не вразумятся. Михаилу и сообщникам его, пребывающим в вышеуказанных заблуждениях и предерзостях, – анафема, маранафа вместе с симонианами, валезианами... и со всеми еретиками, купно же с диаволом и ангелами его. Аминь, аминь, аминь»[17].
 Памятник папе Льву IX в Эгисхайме, Эльзас
Памятник папе Льву IX в Эгисхайме, Эльзас
В Риме вину за свершившийся в 1054-м г. раскол возложили на восточных «схизматиков» и персонально на Патриарха Михаила Керулария
В Риме вину за свершившийся в 1054-м г. раскол возложили на восточных «схизматиков» и персонально на Патриарха Михаила Керулария, который по сей день в интерпретации причин и обстоятельств происшедшего большей частью католических историков изображается столь же одиозным иерархом, как и святой Патриарх Фотий. Удивляться этой конфессиональной предубежденности не приходится. Вызывает недоумение, что и некоторые из православных историков, ради мнимой объективности, возлагают долю ответственности за свершившийся раскол на Михаила. Показательно уже само название посвященной ему работы известного канониста рубежа XIX и XX веков Н. С. Суворова – «Византийский папа. Из истории церковно-государственных отношений».