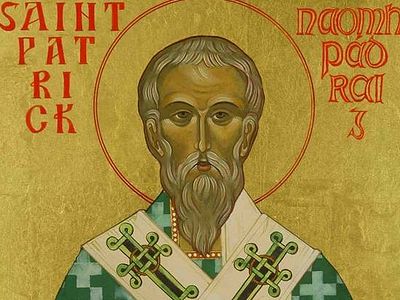Ирландский вкус морской, солёной
пены,
Подмешанный к деяньям
старины…
Неизв. автор, X в.
Кельтский дух во многих отношениях
сходен со славянским.
Дж. Джойс
 Князь Пётр Андреевич Вяземский
Князь Пётр Андреевич Вяземский
Князь Пётр Андреевич Вяземский (1792 – 1878) считал себя рюриковичем в 25-м колене и на протяжении своей долгой творческой жизни неоднократно вспоминал об этом, никогда, впрочем, не упуская возможности признаться и в своих ирландских корнях, и в своих кельтских симпатиях. По отцу князь был потомком Рюрика, по матери – ирландцем, что в сумме даёт совершенно северо-западного человека, ощущавшего своё славянство, свою русскость в разные годы по-разному, но всегда отчётливо и памятно свидетельствуя об этом в стихах, статьях и письмах.
Самое откровенное поэтическое признание Петра Андреевича обнаруживается в стихотворении 1869 года «Введенские горы». Там, в Москве, на этих горах, на единоверческом кладбище была похоронена его мать, княгиня Евгения Ивановна (Дженни Кин О'Рейли); её могилу навещал Вяземский, в последние годы лишь изредка оказываясь в столице; о ней вспоминает он и после тяжёлых приступов болезни в Висбадене:
Мне не чужда Зелёная Эрина
Влечёт и к ней сыновняя любовь:
В моей груди есть с кровью славянина
Ирландской дочери наследственная кровь.
От двух племён идёт моё рожденье,
И в двух церквях с молитвою одной
Одна любовь, одно благословенье
Пред Господом Одним сливались надо мной.
История бракосочетания родителей Вяземского, князя Андрея Ивановича и княгини Евгении Ивановны (Дженни), подробно изложена в работе Вячеслава Бондаренко «Вяземский» (М.: «Молодая Гвардия». – 2014. – С. 19-28). Автор усердно исследует генеалогию Дженни Кин О'Рейли (Quin O'Reilly, ирландск.: O'Raghailligh), её клановую принадлежность, связи, что достойно уважения, хотя в Ирландии О'Рейли, как Смирновых и Петровых в России, – предостаточно. Очевидно и важно, что Андрей Иванович, в 1782 году путешествуя по Европе, встретил молодую ирландку во Франции, влюбился и – или увёл её от мужа или женился на юной вдове. Главное в том, что он, из древнейшего рода Вяземских, рюрикович, поэтического и философского склада человек, послужил не метафорическому или символическому, а самому действенному и настоящему «вливанию» кельтской крови в русскую литературу. Для сугубого подтверждения северо-западного присутствия в роду князя Петра Андреевича стоит вспомнить, что и дед его, Андрей Фёдорович, был женат на пленной шведке.
Ирландия – родина рифмы, остров святых и поэтов, «Зелёная Эрина» князя Вяземского – заговорила на северо-западном наречии, добавила свою пряность в этот букет национальной культуры России, который и благоухает так в силу подобного рода «добавок». Доля турецкой крови дала нам Жуковского, кровь африканская явила Пушкина, шотландцы «подарили» Лермонтова и т. д.
На протяжении долгой творческой судьбы к Ирландии у Петра Андреевича отношение всегда было тёплым и романтичным.
На кельтские корни Вяземского обращали внимание те, кто прекрасно осознавал значение «ирландскости» в характере этого человека и его творческой оригинальности.
В 1950 году Владимир Набоков читал лекции о русской литературе студентам Корнельского университета (город Итака, штат Нью-Йорк). Позднее эти тексты стали основой его огромного комментария к «Евгению Онегину».
Для своих слушателей Владимир Владимирович, когда дело дошло до Вяземского, не удержался (не преминул) подчеркнуть его этническое происхождение. Учитывая, что американцы прекрасно осведомлены об ирландской специфичности, а сам Набоков всегда старался выглядеть убеждённым «наследным англоманом», характеристика князя Петра Андреевича вполне соответствовала набоковской желчности и предвзятости: «Пётр Вяземский (1792 – 1878), малозначительный поэт, жестоко страдал от влияния французского рифмоплёта Пьера Жана Беранже; в остальном же это был виртуоз слова, тонкий стилист-прозаик, блистательный (хотя отнюдь не всегда заслуживающий доверия) мемуарист, критик и острослов. Пушкин очень любил Вяземского и соперничал с ним в зловонности метафор (см. их переписку). Князь был воспитанником Карамзина, крестником Разума, певцом романтизма и ирландцем по матери (О'Рейли)» (Комментарии к «Евгению Онегину». – СПб.: Искусство, 1998. – С. 101.). Если среди студентов находились ирландцы, то они, конечно же, обращали внимание на уточнение лектора: к какому именно клану принадлежала Дженни, мать князя. Другие могли запомнить двусмысленные колкости про «крестника», «певца» и «рифмоплёта Беранже».
В 1817 году публикуется статья князя «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» – своего рода литературоведческий некролог.
Литература кельтской и неотделимой от неё в те годы скандинавской традиции была известна Вяземскому с самых его начальных лет. Макферсона он читал во французских переводах, собранных отцом в огромной Остафьевской библиотеке, а подстрочник английского подлинника получал непосредственно из рук Н.М. Карамзина. Его наставник, «пренебрегавший общепринятой в XVIII веке шкалой литературных ценностей, демонстративно игнорируя всю французскую литературу, прямо переходил от древности к английской поэзии <…> высоко ставил Оссиана» (Лотман Ю.М. «Поэзия Карамзина»). В журналах, издававшихся Николаем Михайловичем, было довольно много прозаических переводов из «Северного Гомера», а с 1803 года стали появляться и стихотворные, которые принадлежали другому наставнику и другу князя – Ивану Ивановичу Дмитриеву.
Кроме того, Пётр Андреевич не мог не знать о книжке Александра Ивановича Дмитриева (брата Ивана Ивановича, †1798) «Поэмы древних бардов». Вышедшая из печати в 1788 году, она состояла из десяти «оссианических фрагментов», переводов, сделанных из популярного французского сборника «Избранные эрские сказки и стихотворения» (1772).
Ну, и, конечно же, Вяземский, погружённый в литературный мир России, был прекрасно осведомлён относительно творчества всех крупных величин конца XVIII века, в том числе Ермила Ивановича Кострова – автора первого перевода Гомеровой «Иллиады» и «Золотого осла» Апулея (1755 – 1796). В 1791 году вышел двухтомник: «Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские (иначе эрские или ирландские) стихотворения, переведённые с французского Е. Костровым» (перевод с фр. книги П. Летурнера). Книги были посвящены почитателю Оссиана генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, который знал французские оригиналы, по свидетельству современников, высоко ценил «северный эпос» и «брал во все походы» его различные издания.
Для Вяземского Оссиан не исключительно ирландский или шотландский поэт. Больше. Он певец европейского Северо-Запада. Понятие «кельтская культура» («кельтская литература») появится только во 2-й трети XIX века, но «оссиановская поэзия каледонского барда» (А. Майков), дань которой отдали Пушкин, Лермонтов, Батюшков, Языков, Веневитинов, Катенин, Полежаев и множество других уже забытых авторов, вполовину ирландцем Вяземским была прекрасно оценена как «героическая», «народная» и северно-аскетичная.
К слову сказать, что кроме А.В. Суворова, импонировавшего кельтской воинской героике, образы Макферсона в озеровском переложении вдохновляли и двух других русских полководцев: А.П. Ермолова и А.И. Кутаисова. Накануне Бородинского сражения именно «Фингал» был их чтением (См.: Муравьёв Н.Н. Записки. Русск.Архив. 1885 г. кн. III, вып. 10. – С. 258. Цит. по: Левин Ю.Д. Оссиан в России).
Не уточняя имён, Вяземский в этой пространной работе замечал: «Цвет поэзии Оссиана может быть удачнее обильного в оттенках цвета поэзии Гомеровой перенесён на почву нашу… Некоторые русские переводы песен северного барда подтверждают сие мнение» (ПСС. – Т. 1. – С. 40-60).
Владислав Александрович Озеров (1769 – 1816), не принадлежавший кругу Карамзина-Дмитриева, раздражавший Пушкина, был симпатичен князю, а его трагедия «Фингал» (1805) была одной из любимых русских постановок Петра Андреевича, благодаря большому количеству пантомимы, танцев и хоров. Заядлый с юности театрал, он, как и весь тогдашний Петербург, знал наизусть монолог Моины: «В пустынной тишине, в лесах, среди свободы…», – и говорил, что «Фингал» не трагедия, а «трагическое представление». Но в этой вышеупомянутой работе обнаруживаются не только дифирамбы в адрес Озерова, но и «этно-культурологические» наблюдения Вяземского, которых не встретишь ни у Павла Катенина, ни у Аполлона Майкова, исследовавшего в 1897 году литературную критику своих поэтов-предшественников. См.: А. Майков. Князь Вяземский и Пушкин об Озерове. – СПб.: Типогр. М. Стасюлевича. – 1897.
Пётр Андреевич пишет: «Воображение Оссиана (т.е. Макферсона – Авт.) грустно, однообразно, как вечные снега его родины. У него одна лишь мысль, одно чувство: любовь к отечеству, и сия любовь согревает его в холодном царстве зимы и становится обильным источником его вдохновения. Его герои – ратники; поприще их славы – бранное поле, алтари – могилы храбрых… Северный поэт переносится под небо, сходное с его небом, созерцает природу, сходную его природе, встречается в нравах сынов ея простоту, в подвигах их – мужество, которые рождают в нём тёмное, но живое чувство убеждения, что предки его горели тем же мужеством, имели ту же простоту в нравах» (Там же).
В 1827 году Вяземский, очень внимательно анализировавший политические события вокруг развалившегося Священного Союза и общеевропейских перемен, пишет статью «Отрывок из биографии Каннинга». Министр иностранных дел Англии скоропостижно, в возрасте 58 лет, скончался 8 августа того же года, и Петр Андреевич, наблюдавший яркую пятилетнюю политическую карьеру Каннинга, восклицает: «Ныне смерть великого государственного человека, исповедующего правила политики великодушной и просвещённой, есть общая потеря. <…> но благие семена, посеянные Каннингом, созреют и разовьются под сенью его преждевременного гроба» (ПСС, Т 2. – С. 1-9). Там же князь отмечает, что «Каннинг (Георг) ирландского происхождения, родившийся, по одним сведениям, в Лондоне, по другим – в Ирландии». Вяземский знал, что именно при Каннинге попытки ликвидировать «католическую ассоциацию» Даниэля О'Конннела в 1825 году были расстроены, так как министр «в отношении вопроса об эмансипации католиков проявил признак поворота к лучшему… <…> После смерти Каннинга к власти пришли чистые тори во главе с «железным герцогом» Веллингтоном и Робертом Пиллем» (См.: Афанасьев Г.Е. История Ирландии. – 1907. – С. 165. Репринт. М., Красанд, 2010 г.). Ассоциацию О'Конннела закрыли, и Вяземский, сопереживая своим дальним сородичам, отмечает: «Внутри Англии – горестная для человечества тяжба католиков ирландских с мнимым и худо понимаемым законом государственной необходимости» (ПСС, Т 2. – С. 4).
В ноябре 1828 года, во время глубокого душевного кризиса и первых серьёзных нервных приступов, связанных с опалой, казнью друзей-декабристов, смертью Николая Михайловича Карамзина, сына Петра, доносами, клеветой и проч., Вяземский пишет Александру Ивановичу Тургеневу: «Сделай одолжение, отыщи мне родственников моих в Ирландии: моя мама была из фамилии О'Рейли. Она была замужем за французом и развелась с ним, чтобы выйти замуж за моего отца, который тогда путешествовал… <…> Может быть, придётся мне искать гражданского гостеприимства в Ирландии» (П.А. Вяземский. Письмо А.И. Тургеневу 14 ноября 1828г. Остафьевский архив. – СПб. – 1908. – Т. 3. – С. 183).
Через десять лет князь будет путешествовать по Англии, напишет известные строки: «Сошёл на Брайтон мир глубокий», – и однажды, в одном светском салоне вызовет восторг и аплодисменты признанием: «… Я сам, дамы и господа, наполовину ирландец».
В 1854 году брюссельское издательство печатает на французском книгу князя «Письма русского ветерана 1812 года о Восточном вопросе, изданные князем Остафьевским» (Русский перевод сделал для ПСС в 1883 году П.И. Бартенев). Это была подборка публицистических заметок Петра Андреевича в связи с начавшейся Крымской войной. И как замечает П.А. Алькушин, «главной мишенью в работе была избрана политика английского правительства Великобритании, которую Вяземский считал своекорыстной и проникнутой «фанатизмом гинеи». Ещё князь говорил про «бедственное и унизительное положение, в котором английское правительство держит Ирландию, так как «вероятно, находит, что ирландцев слишком много и что поэтому нельзя себе позволить в отношении к ним справедливости и великодушия»(П.А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России. – П.В. Алькушин. – М., 2001. – С. 184.).
В 1876 году, во время порыва, охватившего русских православных патриотов, буквально рвавшихся на войну против Турции за братьев-славян – сербов, князь делает приписку к своей пятидесятилетней давности статье «Жуковский – Пушкин. О новой пиитике басен 1825»: «Национальность есть чувство свободное, врождённое: мы любим родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает своими, по тому же закону природы, по которому мы любим себя, а в себе любим и семью свою, родителей, братьев, сестёр. Захотеть же вложить это чувство в систему, в учение, в закон – это то же, что задушить его» (ПСС. – Т. 1. – С. 185).
А в частном письме к Бартеньеву сурово рассуждает: «Главная погрешность, главное недоразумение наше, что мы считаем себя более славянами, чем русскими. Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди – славянолюбие. Лучше иметь для нас сбоку слабую Турцию, старую, дряхлую, нежели молодую сильную, демократическую Славянию, которая будет нас опасаться, но любить не будет. И когда были нам в пользу славяне? Россия для них дойная корова и только. А мы даём доить себя и до крови».
На закате жизни Вяземский, в интеллектуальном отношении уже достигший редкого сочетания: мудрости и независимости, – остался практически один. Он, не приспособившийся к славянофилам, брезговавший демократами из разночинцев, сторонившийся «государственников» и синодалов, не создавший ни школы, ни группы, без учеников и последователей – всё больше напоминал ирландского Кухуллина у ворот Тары. По крайней мере, взгляды Вяземского, расскажи о них вдохновителям «кельтского возрождения» 1880-х Ирландии, были бы вполне понятны.
Для нас же «ирландскость» князя Петра Андреевича – хорошая подсказка к ответу на вопрос: «Почему мы любим Россию в широте её континентальных просторов – из московского скверика или тверского палисадника – в равных долях и с искренним чувством?»

 Православный календарь
Православный календарь Духовный закон
Духовный закон Невидимые пустынники Буковинских гор
Невидимые пустынники Буковинских гор Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950)
Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950) «Каждую неделю левые грозятся меня убить»
«Каждую неделю левые грозятся меня убить» Математик Алексей Савватеев: «Нагорная проповедь — это что-то запредельное»
Математик Алексей Савватеев: «Нагорная проповедь — это что-то запредельное» «Закон духовной жизни таков: если я сяду, то мои дети лягут»
«Закон духовной жизни таков: если я сяду, то мои дети лягут» «Я чувствую в себе мрак. Что мне делать?»
«Я чувствую в себе мрак. Что мне делать?» Дети! Последнее время
Дети! Последнее время Невидимые пустынники Буковинских гор
Невидимые пустынники Буковинских гор Иконописец Андрей Патраков
Иконописец Андрей Патраков





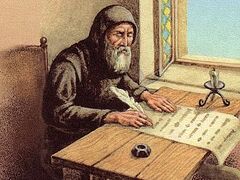



 Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)Ирина Судакова Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова
Архимандрит Алипий (Воронов)Ирина Судакова Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример
Преподобный Паисий Святогорец. Научись у святогоСерия детских книг: Жизнь как пример Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма разных летИздание исправленное и дополненное Пока есть времяЕлена Кучеренко
Пока есть времяЕлена Кучеренко Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова
Первые навыки. Райский сад. ВырезаемХудожник: Любовь Макарова Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина
Первые навыки. Устройство храма. НаклейкиХудожник: Татьяна Бердюгина Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь
Первые навыки. Сотворение мира. РисуемХудожник: Анна Гузь Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова
Первые навыки. Священная история. ЛабиринтыЕкатерина Баканова Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова
Блудные дети или Пропадал и нашелся. РоманСветлана Замлелова «Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова
«Архимандрит Алипий. Великий наместник»Анастасия Горюнова Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова
Святитель Лука Крымский. Научись у святогоИрина Судакова Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов)
Радость покаянияМитр. Тихон (Шевкунов) Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов)
Твое ВоскресениеМитрополит Тихон (Шевкунов) Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов
Цесаревич Алексий. Научись у святогоРоман Котов Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева
Подорожник для разбитого сердцаСветлана Зайцева Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)
Примиритесь с Богом!Архимандрит Антонин (Капустин)