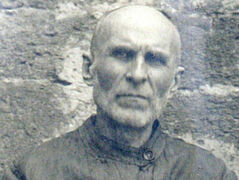6 августа исполнилось 60 лет со дня кончины протоиерея Василия Мухина. Вместе со своей супругой матушкой Раисой он подвергся гонениям в тяжелые для Церкви 1920–1930-е годы. Бесценные сведения о жизни этой священнической семьи мы находим в воспоминаниях дочери отца Василия и матушки Раисы – Анны Васильевны (в замужестве Николаевой). Именно она в силу своего возраста стала свидетелем ареста родителей и их жизни в ссылке – Анна была младшей из девятерых детей, ее старшие братья и сестры к тому времени уже жили отдельно. На ее же руках много лет спустя умер 87-летний отец Василий.
6 августа исполнилось 60 лет со дня кончины протоиерея Василия Мухина. Вместе со своей супругой матушкой Раисой он подвергся гонениям в тяжелые для Церкви 1920–1930-е годы. Бесценные сведения о жизни этой священнической семьи мы находим в воспоминаниях дочери отца Василия и матушки Раисы – Анны Васильевны (в замужестве Николаевой). Именно она в силу своего возраста стала свидетелем ареста родителей и их жизни в ссылке – Анна была младшей из девятерых детей, ее старшие братья и сестры к тому времени уже жили отдельно. На ее же руках много лет спустя умер 87-летний отец Василий.
Представляем вашему вниманию избранные отрывки из воспоминаний Анны Васильевны Николаевой (Мухиной).
Мои любимые родители
 С большой любовью и нежностью всегда вспоминаю их. Жизнь меня бросала в разные места нашей необъятной страны, но душа моя всегда была с ними, и ежегодно, где бы я ни была со своим мужем по его службе, я старалась приехать на месяц к родителям. Какое это было счастье! <…>
С большой любовью и нежностью всегда вспоминаю их. Жизнь меня бросала в разные места нашей необъятной страны, но душа моя всегда была с ними, и ежегодно, где бы я ни была со своим мужем по его службе, я старалась приехать на месяц к родителям. Какое это было счастье! <…>
В 1901 году мой отец был направлен на приход в станицу Анастасиевская Краснодарского края, где прослужил 23 года.
В станице родители имели свой дом, сад, ульи с пчелами, небольшое хозяйство. Жизнь их текла размеренно и спокойно. Папа был ревностным пастырем, любил служить, произносил прекрасные проповеди, всегда старался помогать обездоленным. И всегда моя мамочка была его первой помощницей во всех его делах и начинаниях. <…>
 Школа для иногородних, построенная о. Василием (в центре). Два мальчика в светлых колпачках (справа внизу) – старшие сыновья о. Василия: Вася (2 года) и Коля (4 года). 1906 г.
Школа для иногородних, построенная о. Василием (в центре). Два мальчика в светлых колпачках (справа внизу) – старшие сыновья о. Василия: Вася (2 года) и Коля (4 года). 1906 г.
В Анастасиевской у родителей родились все их девять детей: Николай (1902 г.р.), Василий (1904 г.р.), Иоанн и Людмила (близнецы, 1908 г.р.), Серафим (1915 г.р.), мл. Феофан, мл. Алексий, мл. Екатерина – умерли во младенчестве, Анна (1922 г.р.; Анна Васильевна Мухина, в замужестве Николаева. – Ред.).
Смутное время в станице
Но такая жизнь была до первой империалистической войны. Затем – революция, гражданская война, которая разрушила всю мирную, спокойную и созидательную жизнь. Начались расстрелы, репрессии, ссылки.
Папа, кроме службы в церкви, продолжал преподавать Закон Божий.
Во время гражданской войны станицу занимали то белые, то красные, то зеленые. Часто проливалась кровь. Красные займут – дядя и папа прятались среди жителей станицы, так как людей забирали в заложники и мало кто возвращался живой. <…>
Наступили тяжелые голодные 1920-е года. Родители и тут не могли остаться равнодушными, так как в станице было много голодающих.
Как мне было радостно спустя пятьдесят лет, в Новороссийске, где я летом отдыхала с детьми, услышать от подруги детства:
«Аня, я встретила знакомую, жившую в Анастасиевской, и она рассказала, как в голодный год твой папа с амвона попросил прихожан, чтобы они принесли, что было у кого из продуктов. Сам он принес мешок муки. И стали они при храме по очереди варить еду. Люди приходили с котелками, ели, домой еще несли».
Так и пережили голодное время.
Я же родилась в феврале 1922 года. Мне было 11 месяцев, когда в начале 1923 года моего отца арестовали. Ему было предложено сдать церковь обновленцам-живоцерковникам и служить с ними, иначе грозила ссылка. Он сделать это отказался.
В том же лагере находился епископ Афанасий (Сахаров), который оказал очень большое духовное влияние на папу
Сослали на три года в Зырянский край, поселок Усть-Вымь (Коми), здесь находился лагерь НКВД, занимавшийся дорожными и лесозаготовительными работами. В это место было сослано много духовных лиц, среди них – епископ Афанасий (Сахаров), который оказал очень большое духовное влияние на папу. В дальнейшем они по мере возможности поддерживали связь.
С мамой осталось пятеро детей: 19-летний Василий, 15-летние Иван и Людмила (близнецы), 8-летний Серафим и я.
Василий вскоре уехал продолжать образование, скрывая свое социальное происхождение.
Мое раннее детство
Многие события я помню с трехлетнего возраста: родительский дом, состоящий из четырех комнат, телку, которая меня бодала, котят, родившихся летом в русской печке. Я была маленькой шалуньей. Помню, я решила исчезнуть, спрятаться. Меня повсюду искали, а потом, услышав мой смех, еле вытащили из моего укрытия. Помню ульи с пчелами, которые не раз меня кусали, так как я палочкой по ульям стучала.
Были у нас две собаки – Адот и Бандит. Однажды брат перелезал через забор к соседям, я карабкалась за ним. Вдруг между нами он увидел гадюку (на Кубани их много). Он в страхе стал звать Бандита (громадный умнейший пес). Тот подпрыгнул, схватил змею, стал ее трепать, уже безжизненную бросил на землю и побежал к каменному корытцу с водой для пчел. Там он долго мыл свою морду.
В станице в хате открыли православную церковь. Служил там отец Анатолий. Он был монахом. Однажды он заболел, мы с мамой пошли его навестить. Кто-то угостил меня конфеткой, и я решила отнести ее больному батюшке. Всю дорогу терпела, потом развернула, облизала, опять завернула и угостила батюшку…
Меня как самую младшую любили, баловали, мало наказывали, иногда сажали на стул, ставя в угол носом.
Жизнь в Ставрополе после папиной ссылки (1926–1932)
По окончании ссылки папа вернулся, но уже в Ставрополь, такие были законы. Дом в Анастасиевской оставили брату Василию и его молодой семье. Собрались с мамой и поехали в Ставрополь. Вначале мы плыли пароходом до Краснодара. Там мы остановились у папиного друга – отца Александра Макова. У него было двое детей – Аня и Иван. Позднее наши дорожки часто переплетались.
Из Краснодара поездом приехали в Ставрополь. Папа служил в селе Михайловском.
Впервые сознательно я увидела папу, когда мне было четыре года
Впервые сознательно я увидела папу, когда мне было четыре года. Утром, проснувшись, я услышала голоса родителей. Папа подошел – целует, обнимает и понес меня умываться.
Помню наполненные таинственным лунным светом чудесные летние вечера в саду. Я сижу у кого-то на коленях. Папа рассказывает про Змея Горыныча, о Бабе Яге и Иване-царевиче. Или за вечерним чаем, слушая разговоры (обязательно у кого-то на коленях), вижу голубое-голубое небо, много птичек, и я блаженно засыпаю. <…>
Эти детские года рядом с папой для меня были самыми счастливыми!
Следующий раз папа был арестован в день моего рождения – 16 февраля 1932 года.
Ставрополь
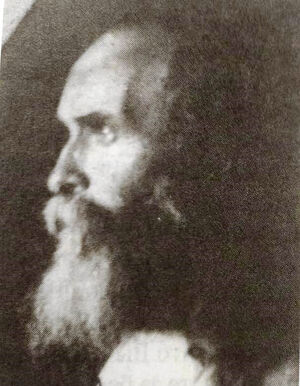 Ставрополь – это город креста. В прошлом – крепость, станица, заслон от кавказских племен. В ясную погоду виден Эльбрус, вокруг – лес, поля. Город расположен на склоне горы. Весь в зелени, садах. <…>
Ставрополь – это город креста. В прошлом – крепость, станица, заслон от кавказских племен. В ясную погоду виден Эльбрус, вокруг – лес, поля. Город расположен на склоне горы. Весь в зелени, садах. <…>
Недолго я прожила в Ставрополе, но всю жизнь любила его – город детства моего, хоть и много недетского горя выпало мне при жизни в нем. Большие беды обрушились не только на нашу семью, но и на множество невинных людей.
Папа служил в Свято-Софиевской церкви. Родители всегда кому-то помогали, сами имея очень немного. Если снимали квартиру, всегда кто-нибудь неимущий жил в отдельной комнате или кухне.
Во дворе у них жила семья татар. Дети – мои сверстники, я с ними дружила. По базарным дням они бегали с чайниками, продавая воду. Мне так было завидно, я так умоляла родителей пустить с ними. И один раз (о, счастье) пустили!
 Базар был близко, я с восторгом бегала с чайником. Первая выручка пошла на раков. Поместила их в чайник с водой, продолжая бегать продавать воду. Придя домой, потихоньку от всех бросила раков в колодец, чтобы размножались…
Базар был близко, я с восторгом бегала с чайником. Первая выручка пошла на раков. Поместила их в чайник с водой, продолжая бегать продавать воду. Придя домой, потихоньку от всех бросила раков в колодец, чтобы размножались…
Больше родители меня торговать не пускали.
В детстве я обожала деревья, это была моя стихия. Я устраивалась на удобной ветке и пела. Пела, представляя себя в театре на сцене. Под орехом на скамеечке сидел старичок, в прошлом военный. Он был моим слушателем, хлопал в ладоши и иногда, когда я спускалась с дерева, давал мне конфету.
Родителям жилось трудно, хоть это уже были времена НЭПа (новая экономическая политика) советского государства. После гражданской войны, разрухи народ чуть-чуть приподнял голову, но ненадолго, впереди маячила коллективизация.
Лишенцы
После папиного возвращения из ссылки вся наша семья стала лишенцами
Еще один аспект нашей жизни в Ставрополе: после папиного возвращения из ссылки мы все – вся наша семья – становились лишенцами.
В то время по закону советского государства мы теряли все права: избирательные, участие в общественной жизни, работа, служба в армии, социальные гарантии и льготы. Фактически становились людьми второго сорта.
Все эти ограничения касались и детей. Папиных и маминых, самых родных… Окончив обучение в школе, как дети лишенцев, неблагонадежных, чтобы учиться дальше, они должны были скрывать свое социальное происхождение, иначе все дороги перед ними были закрыты, и уезжать от родителей.
Мила поехала в Армавир к тете, Анне Самсоновне Семашко, где вскоре вышла замуж. Брат Ваня ушел на квартиру, чтобы жить отдельно, устроился работать. Затем уехал в Ленинград, поступил на рабфак. Дома остались только мы с братом Серафимом. Я уже пошла в школу. Вскоре и Сима уехал в Баку, поступив в техникум.
Второй арест и ссылка. 1932 год
Папа, уже имея горький опыт, обходил здание НКВД соседней улицей, но это его не спасло.
Это случилось в ночь с 16 на 17 февраля 1932 года. Мне исполнилось 10 лет. Днем приходили двое знакомых родителей, я была так рада книжкам, которые подарили мне. Мама приготовила тыквенную кашу, попили чай. Я была счастлива!.. А ночью – стук в дверь, обыск, и папу уводят. Его и еще нескольких священников и монашествующих забрали в ОГПУ-НКВД.
Так закончилось мое беззаботное детство.
Чтобы передать передачу в тюрьму, мама занимала очередь с ночи. Тюрьма была переполнена. Первую партию заключенных, куда попал папа, выслали. Долгое время мы не знали, где он находится. Вторую, большую партию, где было священство, епископ, станичники, туда попал и друг папы Иван Матвеевич Стерженко, – скоро расстреляли.
Ставрополь в 1932–1933 годы. Голодное время
Для нас началось голодное время. Мы остались без средств. <…>
Мы с мамой ели картофельные очистки, жмых. И это было счастьем. Все, что можно было поменять на стаканчик муки, меняли
Мы с мамой ели картофельные очистки, жмых. И это было счастьем. Все, что можно было поменять на стаканчик муки, меняли: книги из библиотеки, вещи.
Вскоре умерла от недоедания, слабости и горя тетя Аня. Мама, завернув ее тело в ковер, похоронила свою любимую сестру в отдельной могиле, что тогда было нереально.
В конце нашей улицы было кладбище. Рыли огромные ямы, и пока они не заполнялись, их не закапывали. Туда боялись ходить, так как ходили слухи, что с мертвых ночью голодные люди срезали мясо. И все это – при нормальном урожае. У людей, несмотря на кучу детей, забирали полностью весь урожай. Ходили по домам и острыми палками проверяли, не спрятали ли мешки с зерном.
Я ходила в школу. Мне было сказано ни к кому из незнакомых людей домой не заходить, не разговаривать. Однажды на базарной площади я собирала косточки от абрикосов, разбивала их и ела. Проходившая женщина спросила: «Ты голодная? Пойдем, я накормлю». Дойдя до ее дома, мы остановились. Грубо тянет за руку в дом. Я вырываюсь: «Если хотите меня накормить, вынесите на улицу». По улице люди шли, а женщина так и не вышла из дома.
В 1933 году наши квартирные хозяева продали дом, новые стали делать ремонт, и мы с мамой перешли в летнюю кухню. Спали на магазинных ящиках. Чудом остался самовар, для растопки я собирала щепочки.
Мама уже пухла. Ваня раз в месяц стал высылать нам посылку с пшеном, сухарями. И мы по стакану в день варили в самоваре, добавляли листья с деревьев, ботву и ели. Если бы не эти посылки, мы бы умерли.
Мамин арест. Тюрьма. 1933 год
Маму арестовали, увели, и я осталась совсем одна. Дадут что-нибудь люди – несу маме в тюрьму передачу
Однажды ночью – стук в дверь. Пришли, начали делать обыск. Брать было нечего, только оставшиеся духовные книги забрали. Маму арестовали, увели, и я осталась совсем одна. Днем кто-то из людей покормит, а ночь лежу на ящиках, плачу, пока не засну. Плакала из-за мамы и боялась, что меня могут съесть.
Дадут что-нибудь люди – несу маме в тюрьму передачу. Получаю записку:
«В такое-то время встань влево от тюрьмы, я поднимусь на подоконник в окне второго этажа, и ты меня увидишь».
А с четырех сторон по углам вышки с часовыми…
Как увидела я маму в окне, белым платочком сквозь решетку машет, подняла крик: «Мама, мамочка!» Плача, мама ушла.
Как-то просыпаюсь от стука в дверь. Это сосед. «Аня, скорее, скорее на улицу, там мама идет!» Я бегу, по улице в сопровождении конвоя ведут за город арестованных, копать картошку. Я врываюсь в колонну, бросаюсь к маме. Плачу от счастья.
Целый день я провела с мамочкой, помогая собирать картошку. Вечером в строю арестованных дошла до ворот тюрьмы и с плачем рассталась с мамой.
Вместе с Марфой Лукьяновной, нашей знакомой, мы стали ходить по дворам. Если что-нибудь давали, она готовила, а я носила передачи в тюрьму. До заморозков я ходила босая. Кто-то в церкви дал мне ботинки, они подошли маме, так как она была в тряпичных туфельках. Вскоре и мне подобрали подходящую обувь. Иной раз меня в церкви подкармливали. <…>
Условия в тюрьме были ужасные. Со стен текло, пол цементный, параша прямо в камере. Но среди окружающих людей мама пользовалась большим уважением.
Тюрьма переполнена. В основном сидели за пять колосков, сорванных на колхозном поле, за припрятанные для голодных ребятишек выращенные овощи и зерно, за корову, отобранную в колхозное стадо, но случайно прибредшую домой и подоенную обрадованными хозяевами.
Но были в тюрьме и рецидивисты, среди которых – женщины. <…>
Слава Богу, в тюрьме могли причащаться. Святые Дары вкладывались в хлеб, передаваемый заключенным
Слава Богу, могли и причащаться в тюрьме. На свиданиях через родных передавались записочки с грехами, священник разрешал их, Святые Дары вкладывались в хлеб, передаваемый заключенным.
Наконец, в феврале 1934 года был вынесен судебный приговор. Мама получила 5 лет по 58-й статье за контрреволюционную деятельность.<…>
1934 год. Казахстан, Актюбинск. Любимый папочка
Папа, сосланный в Актюбинск на вольное поселение под надзор, снимал жилье, но должен был в течение трех лет каждую неделю отмечаться.
Актюбинск – это западная часть Казахстана. В песках – рядом голодная степь, пустыня. Климат резко континентальный. Летом жара до тридцати градусов и выше, ветра, несущие песок, зелень скудная, деревьев мало, зимой морозы до тридцати градусов. Только май замечательный – желтая степь, все в тюльпанах.
Я написала папе письмо, можно ли мне к нему приехать. Папа ответил, что можно. Он прислал мне московский адрес знакомых по первой ссылке, они собрали для меня одежду, обувь, подкормили недели две и отправили к папе. Ехала поездом трое суток.
Сошла с поезда, все необычно, чуждо. Дома-землянки с плоскими глиняными крышами. Разыскала папину землянку, где он снимал комнату у баронессы Вревской. Она работала медсестрой в железнодорожной больнице.
Землянка низкая, окна почти у самой земли еле видны из-за сугробов. Постучала. Папа вышел, обнял меня и стал рыдать. Так началась моя жизнь в Актюбинске, который позже стал для меня очень дорогим. И сейчас при воспоминаниях так же дорог. <…>
Актюбинск – город ссыльных, в основном политических. Кого только там не было! Профессура, врачи, педагоги, люди прошлого: княгиня Уварова с несовершеннолетней дочерью, княгиня Волконская со своей девятилетней внучкой Ниночкой, мать которой умерла при родах, а отец – в ссылке в Сибири. С Волконской был еще сын Андрей лет двадцати, работал бухгалтером. Княгиня была лет пятидесяти, красивая, стройная, образованная, обаятельная. Делала для продажи изумительно красивые цветы, надо было как-то выживать. Ссыльные были необычайно дружны, часто общались.
Я очень скучала о мамочке, о Ставрополе, но уже не скиталась, не голодала. Папу и себя обстирывала, пол мыла сама. Папа варил, а позже и я научилась.
Папа носил облачение в сумке, сверху для конспирации лежал рубанок
У папы были подрезаны волосы так, чтобы он мог закрутить их и спрятать под шляпу. Облачение носил в сумке, сверху для конспирации лежал рубанок. В школе я скрывала, что папа ссыльный, а мама в тюрьме. Только одна моя близкая подруга бывала у нас.
Банька, где мы жили, имела маленькие сени, маленькие окна, невысокие двери. Часто высокие ростом гости уходили с шишками на голове. В предбаннике стоял верстак, папа немного столярничал. На верстаке я и спала. Вместо подушки – деревянный чурбан, который накрывался чем-то мягким. Одеяла не было. Позже ссыльные монашки состегали из сшитых лоскутков одеяло. Какое было счастье спать под ним! В метре от верстака стояла плита. Зимы суровые, уголь в ней горел с утра до ночи.
У папы помещение было немного больше. Стояла кровать, этажерка для книг, сундучок для белья, и стол, на котором он совершал каждый день, кроме понедельника, богослужение.
1935 год. Мамочка с нами!
Когда закончился срок маминого пребывания в тюрьме, их повезли через всю страну для дальнейшего поселения в Казахстане. Мама написала начальнику заявление, в котором просила отправить ее в Актюбинск, где отбывал ссылку ее муж и жила несовершеннолетняя дочь – учащаяся.
И вот однажды в марте 1935 года утром я играла с котенком на папиной постели. Стук в дверь. Смотрю в окошко, думаю: шаль серая, такая, как у мамы была.
Папа пошел открывать. Дверь открывается, и я вижу маму. Кричу: «Мама, мамочка моя!» – и бросаюсь к ней на шею. Папа оторопел, так как не разглядел, кто ворвался в дом. Какая-то женщина, не здороваясь, ринулась в комнату. Мама хотела меня скорее увидеть. Можете представить, как мы были счастливы, что снова все вместе!
Мы спали на верстаке до моих 17-ти лет, пока не поменяли жилье. Там уже каждый имел свою кровать
Так как я не хотела расставаться с мамой ни на одну минуту, папе пришлось дотачать верстак, чтобы было еще спальное место для мамы. Часто зимой в углу маминой подушки был виден иней. Но мы все были счастливы! Мы спали на верстаке до моих семнадцати лет, пока не поменяли жилье. Там уже каждый имел свою кровать.
С приездом дорогой мамочки наша с папой жизнь в корне изменилась. Наскучавшись без нее, я не могла себе представить, как можно повысить тон, ответить дерзко. Для меня мама была святыней, идеалом, наставницей, подругой. Привыкла с ней обо всем делиться, рассказывать свои детские секреты.
Народ жил бедно, магазины были пусты. Ситец достать было невозможно, поэтому в аптеке покупалась марля и шились из нее в два слоя простыни, наволочки, рубашки. Но, повидав худшее, жили и не сетовали, за все благодарили Бога.
Покрасив полотенце, мама сшила мне юбку. Вышила черный сатин, и получилась красивая блузка, тридцатилетней давности жилет, а на ноги – брезентовые тапочки. Так я ходила в школу.
Ежедневно мы с мамой ходили на речку купаться. Спали летом во дворе. Рядом озерцо – вечером слышен многоголосый оркестр лягушек, а небо звездное-звездное. После дневного зноя это была благодать.
У мамочки моей был дивный голос – сопрано. Многие романсы, песни она передала мне. (Анна Васильевна имела такой же красивый голос. – Ред.).
У нас в семье все любили музыку. Еще в нашем доме в Анастасиевской стояло пианино. Папа аккомпанировал маме, когда она пела. Выписывали они тогда, до революции, журналы, книги. Дома была большая библиотека.
Много, много людей, в основном ссыльных, прошло перед моими глазами: умных, всесторонне образованных. Многие в ссылке познали Бога. Сколько перебывало людей в нашей тесной баньке! Уходили домой с облегченной душой, открыв для себя во всех обстоятельствах жизни Промысл Божий.
Я поражалась как мои родители, испытавшие столько горя, страданий, могли спокойно, без ненависти говорить с теми, кто это сделал, говорить о настоящем, принимать его.
В 1935 году открыли церковь, но папа как ссыльный не мог в ней служить. Наверное, так было надо. В 1937 году ее закрыли, архиерей и священники погибли в лагерях. Церковь взорвали, на ее месте построили дом культуры, который три раза горел.
Наступил 1937 год. По стране прокатились страшные репрессии. Не обошли они и Актюбинск. Многих арестовали, не дав закончить срока вольной ссылки. Среди них было много друзей родителей, которых они больше не видели. <…>
Папа тайно служил каждый день, мама была его помощницей: пела, читала, пекла просфоры
Папа по-прежнему тайно келейно служил каждый день, мама была его помощницей: пела, читала, пекла просфоры. <…>
Много лет спустя, когда я приехала в Актюбинск делать маме памятник, рассказали мне такую историю: ходила к нам в дом на тайные службы одна женщина. Она очень уважала и любила моих родителей. Сын ее работал в секретных органах, и он, оказывается, много лет знал все, что происходило в доме. И молчал все это время.
 Так Господь, возможно по молитвам усопших, по папиной вере и бесстрашию хранил всех нас.
Так Господь, возможно по молитвам усопших, по папиной вере и бесстрашию хранил всех нас.
После восьмого класса я поступила учиться в педучилище. На первую стипендию я купила маме брезентовые туфли, а на летнюю заказала маме и себе валенки. Я очень много читала. Все проходило мамину цензуру. Как-то принесла Мопассана. «Вынеси это и не читай», – посоветовала она. <…>
С началом войны в Актюбинск хлынули эвакуированные семьи, так как это был глубокий тыл. Для многих опять началось голодное время. Особенно для эвакуированных и вновь сосланных. Местное население держалось – запасами, огородами. Мы как-то держались и старались помочь людям. Никто не уходил от моих родителей не обогретый словом, не накормленный. <…>
Большим папиным другом был ссыльный регент митрополичьего хора Киево-Печерской лавры архимандрит Иадор
Мы ждали каждой сводки с фронта, очень переживали, так как у многих воевали самые близкие. Жили с верой, что война скоро закончится нашей победой.
Но известия о смерти все шли и шли. Немцы жестоко расправлялись с населением: сжигали жилье, с завоеванных территорий угоняли людей на работу в Германию. Мой брат Василий тоже был увезен в Германию со всей своей семьей. Людмила, живя в Ленинграде, пережила блокаду. Брат Иван, работая в Иргизе зав. метеорологической станции, был мобилизован на фронт, побывал в плену, но вернулся, и уже после окончания войны поступил в Саратовскую духовную семинарию. Бедным моим родителям было о ком горячо молиться Господу.
Мы жили уже не в баньке, а в землянке. Комната и кухня. Уже спали каждый на своей кровати. Папа по-прежнему келейно служил.
 Владимир Владимирович и Анна Васильевна Николаевы Большим папиным другом был ссыльный регент митрополичьего хора Киево-Печерской лавры архимандрит Иадор. Он общался с папой и сослужил ему. Светлая была личность. Так и умер в Актюбинске по завершении срока ссылки, не дождавшись окончания войны. Тосковал, горевал о лавре, надеялся вернуться. Человек был доброты необыкновенной! Всегда его поминаю. <…>
Владимир Владимирович и Анна Васильевна Николаевы Большим папиным другом был ссыльный регент митрополичьего хора Киево-Печерской лавры архимандрит Иадор. Он общался с папой и сослужил ему. Светлая была личность. Так и умер в Актюбинске по завершении срока ссылки, не дождавшись окончания войны. Тосковал, горевал о лавре, надеялся вернуться. Человек был доброты необыкновенной! Всегда его поминаю. <…>
В июне 1944 года было решено, что я поеду к тете Сане в Киев. Муж ее, папин брат, Мухин Николай Феодосиевич умер в 1940 году от инсульта, на праздник Казанской Божией Матери. Папа собирался служить обедню и вдруг говорит маме: «Сейчас умер кто-то из близких людей, я слышу стон». Из тетиного письма мы узнали, что дядя умер именно в этот день и в этот час.
В 1944 году Анна переехала в Киев, где 12 июля 1946 года вышла замуж за Николаева Владимира Владимировича.
Встреча с о. Исаакием (Виноградовым)
 На следующий день после венчания мы поехали в Актюбинск к моим любимым родителям, встреча с которыми была для меня не только великим счастьем, но и тревогой, так как они были уже в возрасте, а мы уезжали с Володей в далекие края, расстояние до которых – двенадцать тысяч километров.
На следующий день после венчания мы поехали в Актюбинск к моим любимым родителям, встреча с которыми была для меня не только великим счастьем, но и тревогой, так как они были уже в возрасте, а мы уезжали с Володей в далекие края, расстояние до которых – двенадцать тысяч километров.
Приехали к родителям, а у них гость – архимандрит Исаакий (Виноградов). Отец Исаакий был освобожден в начале 1946 года из лагеря и сослан под наблюдение в Актюбинск.
Вот как было дело. Стук в дверь… Мама выходит – стоит человек.
«Я возвращаюсь из ссылки, отбывал ее в лагере. Мне тут сказали адрес священника, вот я и нашел вас. Возвращаться мне некуда, так как я служил в Праге, где с приходом советской власти меня и арестовали».
Мои родители встретили его с большой теплотой. Он жил у них около полугода, как он говорил – приходил в чувства после «курорта». Папа уже служил в церкви легально. Вернули здание бывшего храма, который необходимо было восстанавливать: иконы и всю церковную утварь заказывали в Москве на средства, собранные верующими людьми.
 Подпись на фото: «Дорогим и о Господе возлюбленным моим благодетелям и кормильцам актюбинским, батюшке о. Василию и матушке Раисе Самсоновне, на добрую память от крепко их любящего и навсегда признательного бывшего домочадца и неизменного друга и богомольца архимандрита Исаакия» Актюбинск, 1.ХI.1946 г. Быстро и радостно пролетело время нашего пребывания у любимых родителей.
Подпись на фото: «Дорогим и о Господе возлюбленным моим благодетелям и кормильцам актюбинским, батюшке о. Василию и матушке Раисе Самсоновне, на добрую память от крепко их любящего и навсегда признательного бывшего домочадца и неизменного друга и богомольца архимандрита Исаакия» Актюбинск, 1.ХI.1946 г. Быстро и радостно пролетело время нашего пребывания у любимых родителей.
Отец Исаакий только недавно был сослан на поселение в Актюбинск. До этого он отбывал наказание в Карлаге. В лагере к нему относились доброжелательно и с уважением.
Он рассказывал, что часто его, изнемогающего от болезни и истощения, выручали зеки, помогая выполнить норму работы, иначе он лишался бы четырехсот граммов хлеба и миски баланды.
Постепенно, живя у моих родителей, он пришел в себя, отогрелся душой. И до конца своей жизни с благодарностью помнил помощь и родительское отношение к нему, как к родному сыну, совершенно чужих людей.
Служа в церкви, папа, получая небольшую плату, отдавал все маме, тратили только на питание. Если что-то оставалось, все уходило на благотворительность: то вдове какой-то надо помочь, то несчастье у кого-то. Были адреса заключенных, по которым отправлялись деньги, посылки.
 Отец Василий Мухин и архимандрит Исаакий (Виноградов) в Актюбинске. Послевоенное фото
Отец Василий Мухин и архимандрит Исаакий (Виноградов) в Актюбинске. Послевоенное фото
Начало семейной жизни
Мужа Анны Васильевны отправили служить в Северную Корею, откуда она в 1947 году с первенцем Сережей поехала к родителям в Актюбинск.
<…> Послала домой родителям телеграмму, что на билет нет денег, они тут же выслали. И через трое суток я уже в Актюбинске у моих любимых и дорогих. Долго я после такой дороги приходила в себя.
Когда развернула одеяльце, мои родители плакали, увидев внучка, сразу влюбились и души в нем не чаяли. Чтобы дать мне поспать, папа ночью забирал его к себе. Маму мы берегли, у нее было слабое здоровье.
В это время родители уже жили при храме. Две комнаты, кухня, сени. Ехала я к родителям на три месяца, а получился один год и четыре месяца. Муж мне деньги высылал и пока ждал замены, собирал себе на дорогу, так как получил новое назначение в Комсомольск-на-Амуре. Но перед этим – трехмесячный отпуск.
Хорошо мне было у родителей: любовь, забота. Все для Сереженьки. Был он славненький, светловолосый, с ясными голубыми глазками. Папа наш, сильно скучая, забрасывал нас письмами.
 Анна Васильевна Николаева с матерью, мужем и детьми
Анна Васильевна Николаева с матерью, мужем и детьми
1958 год. Родители
<…> Почти каждый отпуск мы старались съездить в Актюбинск. Родители после окончания ссылки остались в городе и жили при храме. Мамочке уже было 79, а папе – 83.
Чем могли, мы помогали родителям: и моим, и свекрови, так как пенсии у нее не было, Володя ее содержал. Вскоре заболела мама и я, оставив детей на мужа и свекровь, полетела в Актюбинск. Пробыла там месяц, пока маме не стало легче. С этого времени появился страх за родителей. Они были стары и немощны, что будет дальше?
 О. Василий и м. Раиса, 1958 г.
О. Василий и м. Раиса, 1958 г.
Цепь жизненных потерь. Возвращение в Киев
<…> Володя устроился работать врачом-рентгенологом в больнице МВД и в хирургическом отделении клиники на Рейтарской улице. Всего год прошел с тех пор, как он демобилизовался, и у него начало прогрессировать его заболевание, оказалась непроходимость желудка.
А тут тяжело заболевает мама. Прошло четыре месяца, как я у них была. Хотела ехать к родителям, но у мужа срочная операция. Оперировался он у себя в клинике, удалили больше половины желудка, но от нас скрыли, что это онкологическое заболевание. Завели новую карточку и записали другой диагноз – язва желудка. Выписали из больницы 24 августа – слабого, больного. А 1 сентября мы должны были вести девочек в первый класс.
Я отвела девочек в школу, вернулась и сразу помчалась в аэропорт. Прилетела – и застала мамочку только что умершей, еще теплой
В этот день утром пришла телеграмма, чтобы я срочно выезжала к родителям. Я отвела девочек в школу, вернулась и сразу помчалась в аэропорт. Прилетела – и застала мамочку только что умершей, еще теплой. Упала ей на грудь и всю ночь, обливаясь слезами, провела около нее. Папа слабый, беспомощный. Везу его с собой в Киев.
Дома крутилась как белка в колесе. Девочек отвезти в школу (надо было ехать четыре остановки трамваем), занятия в музыкальной школе, магазин, рынок, стирка, готовка. Папочка совсем ослабел, его надо было поднимать, укладывать, кормить. Это длилось два года. Мне было сорок лет.
6 мая 1962 года умирает мой Володя. Работал он почти до последнего дня. Никто не мог предположить, что Володя так рано – в 51 год – уйдет от нас.
6 августа 1962 года, через три месяца после мужа, умирает на моих руках папа. Как я боролась за его жизнь! Но у всех свой срок, ему было уже 87 лет.
Горе было беспредельное, как будто гора обвалилась и раздавила меня. От горя, хлопот меня качало ветром. А рядом мои дети: Тане – 10, Наташе – 9, Коле – 5 лет. Они до конца не осознавали все случившееся. <…>
Нашим благодетелем оставался отец Исаакий. Он часто присылал утешительные письма, помогал материально, хоть я и не просила об этом. Но он через всю свою жизнь пронес любовь и благодарность к моим родителям, не оставившим его в трудный период жизни, и считал своим долгом помогать и нам. Позже, когда я вышла на работу, я попросила его, чтобы он помогал более нуждающимся. Но он все равно на праздники присылал детям по 50 рублей. Позже, когда дети встали на свои ноги, мы к праздникам тоже старались его побаловать чем-нибудь вкусненьким.
Господь нас с детьми не оставлял!