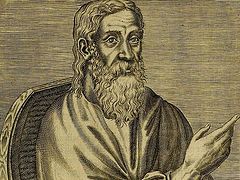Мученик Иустин Философ Шел 165 год от Рождества Христова.
Мученик Иустин Философ Шел 165 год от Рождества Христова.
Засовы темницы безучастно проскрипели, поступь стражника, поднимавшегося по винтовой лестнице, с каждым шагом звучала все глуше и глуше. Во мраке камеры Иустин встречал последнюю ночь. Судебный процесс завершился несколько часов назад, и казнь была назначена на завтра.
Все атрибуты римского судопроизводства были точно соблюдены, и приговор был сформулирован префектом с филигранной точностью – в соответствии с вековыми традициями римского народа и сената. Рустик, прославленный префект, назначенный судьей в этом слушании, третьего дня спустился в эту камеру и долго говорил с Иустином о его деле. Рустик не был фанатиком и симпатизировал уму Иустина, его мужественной готовности отстаивать правду. Это было видно многим даже во время слушаний. Да, Рустик не был фанатиком, но он был римским префектом и потому объяснил Иустину, что его отказ поклоняться богам – преступление, не потому, чтобы эти боги существовали (абсурдность этого утверждения и сам Рустик, и прочие представители римской знати понимали не хуже римских христиан), а потому, что за поклонением богам стоит почет и неоспоримая прерогатива Рима властвовать народами, править вселенной и нести справедливость варварам.
Маленькое оконце под самым потолком мутно серело в дальнем углу карцера, на полу медленно оплывала сальная свеча, оставленная легионером. В эти последние часы своего земного пути Иустин чувствовал потребность решить ряд вопросов. Он подошел к окну в надежде разглядеть тусклое отражение света дальней звезды, но все было глухо и мрачно за решетчатой створкой. Даже светлячки не мелькали в темноте июньской ночи. Самые простые ответы, которое подсказывало ему сознание, саднили душу, и он инстинктивно их отвергал. Надо было понять и додумать многое: жизнь заканчивалась, и предстояло подвести черту.
Менее всего он боялся не выдержать пыток или устрашиться смертного часа. Самонадеянно? Но ведь пыток, кажется, и не будет, а отсечение главы – один из самых гуманных видов казни. Мог ли он после всего пережитого им в молитве и служении Церкви бояться смерти? Ну не мальчик же он с пальмовой веткой в руке – через тернии искушений прошла его осанна! Нет, он не боялся умереть, но душу саднило чувство незавершенности, переживание своей неуспешности. Что-то принципиально важное ускользало из зоны его ответственности, как песок из рук мальчика. Даже сейчас он не может и не должен думать о себе. У него есть миссия – и она возложена на него самой Церковью.
Он помнил, как неожиданно и бесповоротно открылась перед ним евангельская истина после многих лет бесплодных поисков
Кто, если не он, в состоянии достучаться со словами Христовой истины до римских патрициев, до самого императора? Он знает их язык, он изучил их литературу, овладел философией – он умеет говорить с Рустиком, прочими вельможами, сенатом. Они столько раз слушали его – благосклонно, сочувственно. Правда и то, что часто ими руководило желание получить интеллектуальное удовольствие от услышанного, а в глазах читалось не более чем праздное любопытство. Но ведь вода камень точит! Да и можно ли отличить интеллектуальную игру от проблесков неофитства? Он помнил, как неожиданно и бесповоротно открылась перед ним евангельская истина после многих лет бесплодных поисков.
Подумать только: впервые он решил, что конец пути найден и дальнейшее движение – вглубь, но не вдаль, когда пришел в школу стоиков. Трезвенная мужественность стоицизма и сейчас чем-то привлекала его, и все же теперь он улыбнулся при воспоминании о первом увлечении своей молодости. Потом был период изучения платонизма. Платон с его идеями-эйдосами всплывал в его сознании словно окутанный в розовую дымку неопределенности. Память об этой дымке, переливы ее оттенков были скорее приятны ему. Образ ученого перипатетика, который взял на себя роль духовного кормчего и учителя, а оказался простым авантюристом, падким на деньги искателей истины, забавлял. Все остальные мудрецы, писатели и проповедники – все до единого вплоть до его встречи с христианством – сливались в единый калейдоскоп античной мудрости и рассыпались в прах перед сияющей истиной Христа.
 Отойдя от окна, Иустин присел на ворох высохшей травы. Почему Крискент так и не понял всего этого? Ведь как ясно! Но Крискент действительно не понял. Возможно, и не пытался понять. Киникам свойственно отрицать и глумиться, а в ответ на указание очевидных недостатков и логических промахов отделываться пошлейшими силлогизмами. Так было десять лет назад, когда Иустин впервые сошелся с Крискентом в публичном диспуте. Уроки Демосфена и Цицерона самоуверенный киник выучил неплохо и потому умел бросить пыль в глаза и произвести впечатление на младенчески податливые умы италийского плебса. Они ему рукоплескали, приходили слушать его речи раз за разом. Даже его скоморошьи кривлянья трафили их непритязательному вкусу. Тогда Иустин, впервые услышав его уличную речь, посоветовал ему поставить крепкого стражника при входе на форум, чтобы тот собирал плату с любопытствующих. «Но главное, – прибавил он с убийственной серьезностью, – не пренебрегай тараканьими бегами. Их можно устраивать сразу после окончания оваций. Это рафинированное действо привлечет еще больше почитателей твоего риторского ремесла. Ты озолотишься, Крискент!» В ту пору, когда эти слова произносились, Иустин готов был упиваться подобными выпадами просто потому, что его противники были глупы, а сам он умен, и показать свое превосходство, коль скоро оно дано ему Богом, едва ли казалось ему грешно. Но сейчас он так не думал. С того самого дня Крискент обиделся на него глубоко, и время эту обиду не излечило.
Отойдя от окна, Иустин присел на ворох высохшей травы. Почему Крискент так и не понял всего этого? Ведь как ясно! Но Крискент действительно не понял. Возможно, и не пытался понять. Киникам свойственно отрицать и глумиться, а в ответ на указание очевидных недостатков и логических промахов отделываться пошлейшими силлогизмами. Так было десять лет назад, когда Иустин впервые сошелся с Крискентом в публичном диспуте. Уроки Демосфена и Цицерона самоуверенный киник выучил неплохо и потому умел бросить пыль в глаза и произвести впечатление на младенчески податливые умы италийского плебса. Они ему рукоплескали, приходили слушать его речи раз за разом. Даже его скоморошьи кривлянья трафили их непритязательному вкусу. Тогда Иустин, впервые услышав его уличную речь, посоветовал ему поставить крепкого стражника при входе на форум, чтобы тот собирал плату с любопытствующих. «Но главное, – прибавил он с убийственной серьезностью, – не пренебрегай тараканьими бегами. Их можно устраивать сразу после окончания оваций. Это рафинированное действо привлечет еще больше почитателей твоего риторского ремесла. Ты озолотишься, Крискент!» В ту пору, когда эти слова произносились, Иустин готов был упиваться подобными выпадами просто потому, что его противники были глупы, а сам он умен, и показать свое превосходство, коль скоро оно дано ему Богом, едва ли казалось ему грешно. Но сейчас он так не думал. С того самого дня Крискент обиделся на него глубоко, и время эту обиду не излечило.
Когда несколько недель спустя они схлестнулись на публичных слушаниях, организованных городскими властями, Иустин единогласно был признан победителем дискуссии. Неудивительно, ведь судили ее не мастеровые и уличные торговки, а ученые дидаскалы. «Все сказанное мною здесь и сейчас я готов повторить в любую минуту перед лицом его императорского величества», – заявил Иустин перед трибунами. «Посмотрим», – туманно отвечали старейшины, но Иустин надеялся и ждал.
Неужели жертвы мучеников принесены напрасно? Вот уже более ста лет их ученики вынуждены прятать свои лица и утаивать свои верования
Отсюда, именно отсюда, того места, где приняли мученическую кончину верховные апостолы Петр и Павел, должно воссиять христианство народам Запада и Востока. Неужели жертвы мучеников принесены напрасно? Вот уже более ста лет с момента их кончины их ученики вынуждены прятать свои лица и утаивать свои верования. Они собираются для своих молитвенных последований глубоко под землей – в сырых катакомбах, скрытых в разных концах города… Они, лучшие из лучших, таятся как преступники, они загнаны как дичь на псовой охоте. Их хватает дремучий плебс и бросает в темницы, про них складывают зазорные песни, им приписывают дикие изуверства.
Все эти гонения – прямые следствия дремучего мракобесия. Мрак нужно рассеять, истину – открыть. Чем? Ну конечно же, словом, взвешенным, растворенным солью своего опыта, осознанным и, разумеется, сочувственным. Слово – самый действенный инструмент и самое точное орудие. А он, Иустин, знает, как им пользоваться, сможет его применить…
Правда, и этой ночью в его ушах стоят эхом слова Тациана, его духовного брата и единомышленника:
– Зачем ты стараешься? К чему стремишься?
– К торжеству христианства, к концу проповеди, – отвечал он ему тогда и потом. – Ты думаешь, Тациан, что наша проповедь произнесена и утонула в гармонии пасхального канона? Ты ошибаешься. И хотя слова ее почти все написаны и предугаданы Господом, Его ближайшими учениками, но произнести их предначертано нам – мне, тебе, всем, кто будет жить и говорить о Спасителе до конца этого мира.
Но Тациан, качая головой, сомневался:
– Говори, это твое право. Но я присоединю свой голос к крещендо ангельского хорала.
Иустин молчал и стоял на своем.
Стоял на своем в те душные ночи, когда писал свою первую «Апологию» – в защиту христиан Рима. «Слова проповедника и есть его дела», – твердил он своим ученикам. А потому писал городу и миру, но в первую очередь, конечно, императору, властелину вселенной, защитнику наук, искусств и передовых представлений человечества о справедливости. А когда руки его немели, а глаза смыкала дремота, стилос падал к подножию аналоя, но мысли продолжали свою кропотливую работу, перемежаясь с путаными образами сновидений.
В то утро, когда «Апология» была окончена, Тациан, войдя в скрипторий, заменивший Иустину келью, нашел на столешнице свиток. Чернила на нем едва просохли. Крошки пшеничного хлеба, оставшиеся после раннего завтрака Иустина, доклевывал воробушек, бесцеремонно влетевший через раскрытое окно портала.
«Люди истинно благочестивые и любомудрые должны уважать и любить только истину и отказываться от следования мнениям предков, когда они худы», – прочитал Тациан, развернув первый из трактатов своего друга и учителя. Как давно это было! Сколько надежд возникло и исчезло за эти десятки лет!
Пропел первый петух, Иустин вздрогнул: ночь уже почти миновала. С каждым движением его диафрагмы, с каждым ударом его сердца час казни становился на мгновение ближе. Иустин не спал, конечно, он мерил шагом четыре сажени своей камеры: так лучше было думать. В чем он ошибся, что сделал и что написал не так, как надо было писать? В своих посланиях, в проповедях он никогда не льстил вельможам, он не унижал святыню Христова Евангелия до постыдного подобострастия. Нет, он высмеивал их предрассудки, взывая к совести и чести, о которых еще доподлинно неизвестно, были ли они у них. Он хорошо помнил взгляд Антония Пия, пронзительный и одновременно отстраненный, когда тот получил его рукопись и обещал дать свой ответ. Этот взгляд мог сулить и неожиданную милость, и внезапную опалу…
Император инстинктивно чувствовал, что за сектой назареев стоит что-то подобное стихии, приход которой невозможно отвратить и последствия которой сложно предсказать. Поэтому он относился к распространению этого нового вероучения с напряженным вниманием. Те, кто поклонялся Распятому, отказывались чтить римских богов, хотя и понимали, что в рутине государственных постановлений империи это всего лишь формальность. Это было непонятно – и вызывало злобу, хотя и затаенную. Иустин отчасти видел настрой императора и его свиты и знал, чем это грозило Церкви.
Необходимо было, во-первых, представить Антонию и его патрициям, что на деле христианство не такая уж и новая для них вера, ведь со многими его идеями и образами они встречались ранее в своей собственной культуре. Вот почему в «Апологии» Иустин говорил про бесовские наветы, погубившие мудрого Сократа, – мыслителя, которому не могли не сочувствовать представители римской знати. И такие же наветы, писал Иустин, стремятся погубить современных христиан. Что касается учения об адских муках, уготованных нераскаянным грешникам, – нечто подобное можно найти в писаниях Платона. Если вы, продолжал проповедник, верите в целительное искусство первого из ваших лекарей – Эскулапа, почему вы отказываетесь верить в чудеса и исцеления, которые совершил Христос? И разве нельзя найти примеры бессмертия души в поэмах Гомера?! Конечно, учение Христа неподвластно человеческой премудрости, «ибо Он был не софист, но слово Его была сила Божия».
Необходимо было опровергнуть мнение, что христиане – радикальные элементы, грозящие мятежами против власти августейшего кесаря
Во-вторых, необходимо было опровергнуть мнение, что христиане – политически неблагонадежные, радикальные элементы, грозящие мятежами против власти августейшего кесаря. «Страх перед христианами – следствие нелепых наветов, – объяснял Иустин. – Нас называют безбожниками, – пишет он далее, – но как можно обвинять в безбожии тех, кто поклоняется Богу истинному, отвергая поклонение демонам – мнимым богам?»
Клеветники распространили слух, что христиане отказываются платить налоги, но и это не более как обман и интрига: «Мы стараемся везде платить подати и повинности, как заповедовал нам Христос». Еще один слух, известный кесарю, гласит, что назореи – предатели, ожидающие наступление нового царства и пришествие нового царя. «И то правда, что мы ожидаем нового царства, но царство наше не человеческое, а небесное», – парирует Иустин.
Петух пропел во второй раз. Тени темницы просветлели и попрятались по углам.
И так он воздвигал в своих писаниях стройные замки доводов и аргументов, предвидел и высказывал возражения своих противников, опровергал их, высмеивал, уничтожал. Обрушивался шквалом укоризн на оккультные практики римских язычников, варварские пережитки религии предков, поклонение демонам. Не было ни одного заблуждения среди жителей Рима и окрестностей, которое бы он ни опроверг, ни одного предрассудка, который бы он ни обличил, ни одной грязной сплетни о христианах Рима, которую бы он ни высмеял и ни превратил в хриплое эхо бабьей сплетни.
И – ничего, не помогло. Антоний прочитал «Апологию» и – промолчал. Сенат ознакомился со второй «Апологией» и – принял к сведению. И только. Крест не стал вечным, сакральным символом Рима. Ученики апостола Петра все так же гонимы, как и прежде. Шел 165 год от Рождества Христова.
С месяц назад к Иустину пришла патрицианка из новообращенных. Женщина искала защиты от мужа, который совершал возлияния исключительно Вакху и, как выяснилось позднее, имел нужные связи в Сенате. Иустин укрыл ее в обители девственниц. Случай стал известен Крискенту – дело довели до суда. И вот он объявлен государственным преступником, нарушителем общественного спокойствия, источником крамолы.
Петух пропел в третий раз. В камере было светло как днем. Темничный страж заскрежетал замком верхних врат. Иустин подобрал полы рясы, прошептал: «Еже о мне кончину имать». На душе просветлело, как и в тюремном дворе. А он и не заметил… Страж мерно переступал по маршам винтовой лестницы. «Все, что я мог совершить, я совершил. Там, где мог потрудиться, потрудился». Оставалось единственное – отдать свою жизнь за Сына Божьего, перейти через ту черту, за которой водворилось уже столько страдальцев.
Страж спустился с лестницы и подбирал в большой связке на правом боку ключ ко внутренней камере. Иустин посмотрел на него ласково, как на старого товарища, поднялся навстречу, прошел в проем открывшейся двери.
Шел 165 год от Рождества Христова. До Миланского эдикта оставалась без малого сто пятьдесят лет.