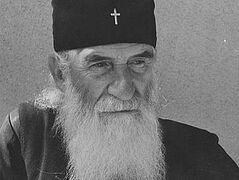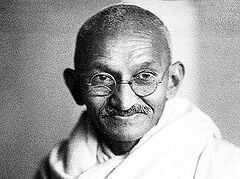Саркофаг с мифом о Селене и Эндимионе
Саркофаг с мифом о Селене и Эндимионе
Зачем Бога беспокоить?
Как-то пришла в наш храм женщина, у которой мама была при смерти. Мама родилась и прожила основную часть своей жизни в советское время, когда-то была идейной коммунисткой и парторгом в школе. Перемена строя, старость и болезни сделали свое дело – она согласилась на то, чтобы дочка привела священника. По просьбе батюшки я провел с пожилой женщиной беседу, за которой вскоре последовали Исповедь и Причастие. Через несколько дней она скончалась.
Прошло немного времени, и я встретил дочь этой женщины недалеко от храма.
– Как хорошо, что я вас встретила, – заговорила она торопливо. – Скажите, пожалуйста, что мне сделать для мамы, чтобы все было правильно? Я хочу так сделать, чтобы все было как положено.
– Сорокоуст заказали?
– Это мы уже заказали в нескольких храмах.
– Нужно и самим не забывать молиться об упокоении, особенно до сорокового дня.
– Ну, в храме мы заказали, а сами – уж как можем… Поминаем, конечно… Скажите, а правда, что одежду до 40 дней нельзя раздавать?
– Да нет, как раз наоборот. В течение 40 дней после смерти милостыня за покойника особенно ценна!
– Вот хорошо, хорошо, обязательно раздадим… Я, знаете, хочу, чтобы все сделать правильно. Чтобы маме там было хорошо!
– Знаете, если мы хотим, чтобы нашим покойным родителям было хорошо, то, прежде всего, нужно нам самим постараться вести церковный образ жизни: молиться, соблюдать посты, регулярно исповедаться, причащаться. Вы в храме часто бываете (ее дом находился в 100 метрах от храма)?
– Ну, когда случается что-нибудь, мы, конечно, идем в храм, а когда все хорошо, зачем Бога беспокоить?
– Что же вы думаете, что Бог спит, или отдыхает, или переутомляется от трудов? Ведь Бог всемогущ, Он не может устать. Наоборот, Он радуется, если мы обращаемся к Нему не только в бедах, но и в благополучии, и при условии спокойной жизни.
Поговорив еще некоторое время в том же духе, я заметил, что интерес к разговору моей собеседницы угас, и вскоре беседа наша сошла на нет.
Преподобный Арсений Великий и старые египетские традиции
Желание помочь покойникам исключительно за счет совершения внешних действий, вне связи с личным Богом, знакомо человечеству издревле. В языческих религиях огромное значение придавалось, прежде всего, ритуалу, в том числе ритуалу погребения. Конечно, и в нашей вере существует обряд погребения, но для вечной участи христианина он не имеет главенствующего значения. В качестве иллюстрации можно привести завещание преподобного Арсения Великого о его похоронах. Преподобный говорил своим ученикам:
«‟Еще не пришел час; когда придет, скажу вам. Но я буду судиться с вами на судилище Христовом, если вы отдадите кому-либо тело моеˮ.
Они сказали ему: ‟Что же мы будем делать, когда не знаем, как похоронить тебя?ˮ На это старец сказал: ‟Ужели не знаете, как привязать к ноге веревку и тащить меня на гору?ˮ»[1]
Для сравнения можно привести отношение к формальной стороне погребения в языческом Египте, в котором значение писца (кроме бытовых, торговых и судебных нужд) увеличивал интерес египтян к своей посмертной участи. Кроме ритуалов и заклинаний, необходимых, по верованиям египтян, для благополучной загробной жизни, они готовили особые списки, в которых отрицались различные виды грехов. Главных грехов было 42, по числу основных божеств.
«Если кто-то болел и боялся умереть, он шел к писцу и просил его написать книгу заклинаний для загробной жизни. Писцу нужно было знать, какую жизнь прожил человек, чтобы догадаться, какое путешествие он может ожидать после смерти; так сказать, индивидуальный подход к нуждам клиента. Популярность такого оберега росла, и писцы стали предлагать клиентам на выбор различные ‟пакетыˮ: чем больше клиент был готов заплатить, тем больше заклинаний содержали папирусы. Клиент мог сам решить, сколько глав включить в книгу, какие иллюстрации ему особенно понадобятся и какого качества папирус использовать»[2].
Желание «все правильно сделать» для своих покойников без поиска общения с Живым Богом роднит нас с язычниками
Показательный момент: такого рода «сопроводительный документ» не предполагал обязательного соответствия между реальностью и писанием. Необходимо было отрицать все, что, по мнению египтян, могло помешать посмертной судьбе закончившего земной путь. К примеру:
«Слава тебе, бог великий, владыка обоюдной правды… Вот, я пришёл к тебе, владыка правды; я принёс правду, я отогнал ложь. Я не творил несправедливого относительно людей. Я не делал зла. Не делал того, что для богов мерзость. Я не убивал. Не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов, не исторгал заупокойных даров у покойников. Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры длины, не нарушал меры полей, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов. Я чист, я чист, я чист, я чист»[3].
Характерно, что для достижения положительного результата человеку было необходимо еще и договориться со своей совестью.
«Так, например, в 30-й главе ‟Книги мертвыхˮ покойный заклинает свое сердце не свидетельствовать против него на посмертном суде»[4].
Как видим, желание «все правильно сделать» для своих покойников без поиска общения с Живым Богом во многом роднит нас с язычниками-египтянами.
Путями Древнего Рима
Что касается прижизненных религиозных интересов современного человека, то во многих случаях они также близки язычеству.
Одна пожилая женщина, желая подчеркнуть свою причастность к церковной жизни, признавалась:
– А я, как только пенсию получаю, сразу у церкву иду и всем богам, всем богам свечки ставлю!
Я пытался ей, как мог, объяснить, что на иконах, конечно, изображается Бог: это Святая Троица, это воплотившийся Сын Божий – Бог и Человек. Но на многих иконах изображаются люди, а не боги, хотя они и святые. Она не перечила мне, со всем соглашалась, но примирительным тоном заключала:
– Да, да… всем богам, всем богам свечки ставлю!
Зачастую люди обращаются к Богу с просьбами о помощи в своих скорбях и болезнях. И здесь нет ничего предосудительного, это нормально. Ненормально же то, что мы не понимаем, зачем нам Бог, когда у нас «все хорошо».
– Какой иконе свечку поставить, чтобы экзамен сдать?
– Кому помолиться, чтобы работу хорошую найти?
– Муж к другой ушел, какую молитву читать, чтобы вернулся?
Множество вопросов такого рода задают люди, приходящие в храм. И часто получают ответы и помощь свыше. Но на этом у большинства связь с духовным миром заканчивается. Не мир для Бога, не отношения с Богом, устремленные в блаженную вечность, а Бог – для устройства земного благополучия.
Не мир для Бога, не отношения с Богом, устремленные в вечность, а Бог – для устройства земного благополучия
И в этом мы недалеко ушли, к примеру, от древних римлян, наполнивших свои верования различными божествами буквально на все случаи жизни. Гении и маны, лары и пенаты, фавны и сильваны, ларвы и лемуры, семоны и индигеты, целый сонм духов и богов толпою врывался в жизнь несчастных римлян, требуя жертв и почитания. В римском пантеоне было множество богов с крайне узкой «специализацией», к примеру – бог первого крика, бог первого шага, бог колыбели и т. д. Еще Блаженный Августин удивлялся ограниченности римских божков. К примеру, о входе в дом у римлян заботились сразу несколько представителей духовного мира:
«…они поставили трех богов – Форкула к дверям (fores), Кардею к петлям (cardo), Лиментина к порогу (limentum). Таким образом, Форкул не мог в одно и то же время охранять петель и порога».[5]
Гуманизм в Православии
Мы видим, что старое отношение к религиозной стороне жизни возвращается с приходом эпохи Возрождения, которая была ничем иным, как откатом к античной, языческой по своей сути, культуре. Переход этот совершился постепенно, а потому для многих незаметно. Заключался он в том, что поначалу старые ценности практически не менялись, но центр системы нравственных законов постепенно смещался от Бога к человеку, что в итоге привело к восстановлению античного принципа: «Человек – мера всех вещей».
Теперь уже не Бог, а человек становится точкой отсчета для определения добра и зла, хорошего и дурного, святого и грешного, нравственного и порочного, а за этим следует и изменение нравственных законов. Христианские догматы и заповеди объявляются устаревшими, негуманными, следовательно, согласно новому мировоззрению, безнравственными («пост и бдение вредны для здоровья, учение о вечных муках жестоко»).
Современный человек, даже приходя в Церковь, несет за собой «шлейф» гуманистических если не идей, то чувств. Даже если он вполне разделяет церковное вероучение, что также становится все большей и большей редкостью, то несет в себе гуманистическое мироощущение, в центре которого он сам – единственный и неповторимый.
Остается только посочувствовать современным пастырям, которые сталкиваются с беспрецедентной в истории ситуацией, когда люди, внешне приходящие в Церковь, по своему внутреннему устройству даже не пытаются стать христианами:
«Главная проблема современных чад, с которой приходится считаться современным пастырям, – это неумение и нежелание терпеть скорби душевные и физические, как последствия греховной жизни. Современный человек к работе над собой, к борьбе с грехом подходит с привычной для него потребностью получить ‟все и сразуˮ. Но, столкнувшись с реальностью долгой и ‟нуднойˮ работы над собой, он быстро охладевает. Его жутко пугают ‟срокиˮ»[6].
Современный человек, даже становясь христианином, не перестает ощущать себя центром мира
Современный человек, даже становясь христианином, не перестает ощущать себя центром мира. Он принимает православное вероучение, читает святых отцов и любит их цитировать, даже порой борется со страстями. Но яд гуманизма незаметно и неизбежно отравляет его изнутри. Поэтому он не столько приходит из мира в Церковь, сколько привносит мир в саму Церковь[7].
Такой человек может бесконечно рассуждать о Церкви и святоотеческих писаниях, о догматах и ересях, о нравственности и пороке, о гордости и смирении, мытарях и фарисеях. Но в его словах и поступках будут сквозить самолюбие и своеволие, которые обнуляют и делают бесплодными любые знания и действия.
Архиепископ Аверкий (Таушев) говорил об этой ситуации еще в середине XX века.
«Трудные времена мы сейчас переживаем, каких, по-видимому, никогда еще не было в истории христианства, ибо это явно наступивший период ‟Апостасииˮ со всеми своими характерными признаками. И это требует от современного пастыря особой бдительности, и, прежде всего, над самим собою, дабы не губить своих овец, вместо того чтобы спасать их.
Сейчас время переоценки ценностей – изощренной и обостренной критики ‟всех и всяˮ. Авторитетов почти не признается. Внешний авторитет положения, сана в глазах многих, едва ли не большинства, уже не имеет никакого значения».
Причины этого известный архипастырь видел в распространяющейся страсти гордости:
«Сейчас время особого расцвета диавольского недуга гордости – матери всех греховных страстей – и всех проистекающих из нее пороков: самолюбия, самомнения, обидчивости, злопамятства, мстительности, тщеславия, славолюбия, самопревозношения».[8]