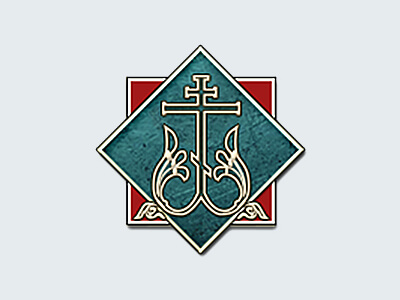|
| Усадьба Щелыково |
И в прошлом глухой, но достаточный, а ныне пустынный и разоренный без людского призора Костромской край, скрывает в чащах покинутые храмы, мертвые стены разоренных деревень.
Село Угольское располагается близ некогда пышной усадьбы Голенищевых-Кутузовых, измельчавшей в деревянный флигелек любимого драматургом А.Н. Островским Щелыкова. Еще сто лет назад стройные белые церкви радостными колокольнями были видны далеко окрест. Леса отступили, дав место плодородным пашням, сочным лугам и необъятному голубому морю цветущего льна. На Субботинской горке открывался пространный вид сорока деревень с населением в тысячи человек. И в каждой - своя церковь, кое-где деревянная, а чаще каменная. Крепче времени оказались стены этих церквей в годы советской власти, когда деревни запустевали даже без массового террора и раскулачивания, просто оттого что жизнь потеряла привычный смысл и вековой уклад.
Храм святителя Николая в Бережках при большевиках сохранился благодаря некоторой архитектурной экзотике, привнесенной Кутузовыми, масонами и мальтийскими рыцарями, в храмовый облик. Вычурный тяжелый иконостас с пузатыми католическими ангелочками и румяными архангелами, острый шпиль колокольни с равным четырехугольником крыжа оказались достаточным основанием для внесения храма в реестр советских культурных ценностей.
Русский храм в Угольском - свидетель победы народного ополчения в Смутное время, посещавшийся князем Д.М. Пожарским, приезжавшим в Угольское на излечение от тяжких ранений к родственникам, - медленно разрушался на глазах вымиравших жителей. Двадцать лет назад мне довелось видеть падение его купола. В прошлом году купол вновь поднялся над воскресающим храмом.
В Никольском храме службы были запрещены в 1967 году, вернулись священники только в 1991. Действует храм для малого числа местных жителей, да еще летних захожан, приезжающих на экскурсии к месту упокоения Островского или отдыхающих в пансионате «Щелыково». Ближайшие действующие храмы - в тридцати километрах в Островском, Костромской области, или в Заволжске, уже Ивановской.
Вокруг храма в Угольском живут несколько древних старух и дачники. Настоятель бережковского храма отец Евгений (Решетков) и трудники идут туда сорок минут из Щелыкова. В сравнении с шумным туристическим центром, Угольское, укрытое лесом, оказалось местом притяжения ищущих умной тишины, сокрытого бескорыстного труда и духовного воспитания.
Священник, несколько коренных жителей и приезжих сами разбирали завалы кирпичей и мусора, ставили леса, скромными силами делали тяжкую работу, непосильную для непрофессионалов, но исполнимую для духовно напряженных искателей.
А зачем храм в пустыне, где давно нет жизни, надежды и веры? Так вопрошают реалисты-прагматики из местной музейной интеллигенции, справедливо полагая своё конечное бытие в категориях сиюминутного разума. Храм им не нужен, но как-то иррационально отрицательно и неравнодушно. Давняя лукавая теория об автономном существовании культуры и христианства здесь еще обостренно актуальна и значима. Церковь отделена от государства, а значит и от культуры – тезис революционный и современный. Он странным подсознательным архетипом существует в головах и международных правозащитников-гуманистов, и работников так называемой «российской» культуры.
Никольский храм, культурная ценность,- давнишнее поле брани музейщиков и духовенства, неподеленное пространство культуры и религиозной духовности. Там все ограничено предписаниями министерства: территория, количество и продолжительность служб, цена билета в храм-музей. Настоятель в надежде на полноценную приходскую жизнь стремится возродить к жизни светской культурой невостребованный, заброшенный, но ощутимо намоленный и ясный храм в Угольском.
Идея расширения общины в духовное православное братство, с устроением приюта и школы, крепкого крестьянского хозяйства, питает труды нашего батюшки. Для мирян это своего рода путь христианской жизни, восстановление исторической преемственности его обоснования, мерило терпения и послушания.
Сомнения остаются у нас, городских заезжан и прихожан, полюбивших это тихое бело-голубое одиночество, воображаемую и чаемую пустынь духовную, плодотворное уединение и созидание вечности. Но, ведомые пастырем добрым и неутомимым, превозмогающим житейские лишения и скорби, укрепляемые и наставляемые, теплой молитвой, мы вспоминаем благочестивых предков и наш оживающий храм.
Нет логического объяснения неровному ходу русской истории. Нет объяснения нашему отступничеству. Разрывая узы прошлого для воплощения «новых» теорий, без возможности остановиться в бурном потоке меняющихся цивилизационных схем, мы гонимся в замкнутом пространстве чужого разума, прозревая Бога в глубоких потемках пережитых мук. И добрыми вестниками поднимаются купола наших церквей, благовестят колокола для нас, страждущих, но твердых в вере грядущего осмысленного преображения родной земли.