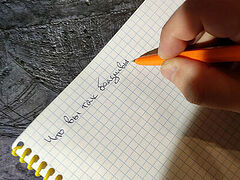Роспись западной галереи Троицкого собора Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме. 15 сентября 1992 года Фото: Печенев Виктор Иванович / temples.ru
Роспись западной галереи Троицкого собора Троицкого Ипатьевского монастыря в Костроме. 15 сентября 1992 года Фото: Печенев Виктор Иванович / temples.ru
В субботу 5-й седмицы Великого поста святая Церковь установила петь последование, представляющее собой одно из самых замечательных с поэтической и богословской точки зрения богослужений Православной Церкви. Центральную его часть составляет так называемый акафист Богородице (греч. ἀκάθιστος ὕμνος – «неседальная песнь», так как исполнялась стоя), который по праву является общепризнанным литургико-поэтическим шедевром и бессмертным памятником христианской словесности. Без сомнения, это одно из наиболее совершенных произведений христианской культуры, построенное на сложном сочетании элементов античной греческой и ветхозаветной поэтики[1]. Помимо акафиста в последование входит канон Богородице песнописца Иосифа четвертого гласа (начало: «Христову книгу одушевленную…»), который также являет собой образец высокой христианской литургической поэзии.
Высокие достоинства акафиста предопределили его широкое употребление в православной христианской традиции, выходящее за рамки одной субботы в году.
Ранее в греческих монастырях существовала традиция не постригать послушника в монахи прежде, нежели он выучит акафист наизусть
В греческой богослужебной практике акафист является одним из любимейших литургических текстов. Прежде всего, он входит в суточный круг монашеского богослужения и читается на повечерии после Символа веры, о чем мы находим свидетельства уже у свт. Симеона Солунского (нач. XV в.). В наши дни эта традиция сохраняется в обителях Святой Горы Афон и других греческих монастырях. Помимо повечерия в монастырях акафист принято читать наизусть во время общих братских работ (панкини́й), путешествий и т. д.[2]. Ранее в греческих монастырях существовала традиция не постригать послушника в монахи прежде, нежели он выучит акафист наизусть. Ежедневное чтение акафиста в Греции весьма распространено и среди благочестивых мирян, поэтому немалая часть верующих знает его наизусть. Существует представление, что читающие ежедневно акафист находятся под особым покровительством Божией Матери.
Также в Греции существует традиция пения акафиста с каноном в пятницу первых четырех седмиц Великого поста на малом повечерии. Это богослужение совершается с большой торжественностью и весьма любимо верующими, которые в этот день наполняют храмы как в дни великих праздников. По сути, это последование Субботы Акафиста, совершаемое по частям в составе малого повечерия, включая все особенности данного богослужения: исполнение тропаря «Взбранной Воеводе» на особый медленный и «сладкогласный» (согласно уставу, «со сладкопением») напев и вообще особая музыкальность данного последования. Священник исполняет тропари мелодически, нараспев, хор повторяет рефрен. В субботу же 5-й седмицы, согласно уставу, как и в русской практике, совершается пение акафиста целиком.
Что касается русской традиции, то помимо уставного чтения акафиста в субботу 5-й седмицы Великого поста на некоторых приходах он иногда поется в составе неуставных богослужений, таких как вечерня с акафистом или молебен с акафистом, а также включается в состав монашеского келейного правила. Здесь уместно вспомнить случай из жития преподобного Сергия Радонежского. В рассказе о явлении ему Пресвятой Богородицы сказано, что Она явилась святому после келейного чтения акафиста. Это указывает на то, что уже в XIV веке на Руси акафист входил в состав монашеского правила. В память о явлении Божией Матери преподобному Сергию в Троице-Сергиевой лавре каждую пятницу в Троицком соборе совершается пение акафиста Божией Матери. Акафист также входит в молитвенное правило лаврских монахов (наряду с акафистом Иисусу Сладчайшему). А поскольку многие возрожденные российские монастыри заимствовали устав Троице-Сергиевой лавры, акафист входит и в монашеские правила других обителей.
Что касается молитвенной практики мирян, то чтение акафиста у нас не так распространено, как в Греции. Многие предпочитают чтение других акафистов иконам Божией Матери или святым. Некоторые духовники нашего времени советуют читать акафист Богородице, особенно при унынии и духовном расслаблении.
При переводе акафиста с греческого на церковнославянский утрачивается бо́льшая часть его художественных особенностей
Меньшую распространенность акафиста в русской традиции можно объяснить тем, что при переводе на церковнославянский язык утрачивается бо́льшая часть его художественных особенностей: таких как, например, изосиллабизм (одинаковое количество слогов в отрезках речи), аллитерация (повторение одинаковых или однородных согласных в стихе, придающее ему особую звуковую выразительность) и алфавитный акростих (первые буквы тропарей акафиста следуют порядку 24 букв греческого алфавита). Тем не менее церковнославянский перевод акафиста является в своем роде переводческим шедевром и сохраняет все смысловые особенности исходного текста (как, например, смысловой параллелизм стихов) и, в целом, сочетание молитвенно-благоговейного духа и сложного догматического содержания, выраженного на языке высокой поэзии.
Существуют также переводы акафиста на русский язык, из которых заслуживает наибольшего внимания перевод святителя Филарета Московского[3]. Из всех переводов он наиболее совершенен с художественной точки зрения, а вместе с тем и очень точен в следовании оригиналу. Кроме того, он наиболее приближен к церковнославянскому тексту, отступая от него лишь в видах большей ясности. Читателю, который по каким-то причинам не в состоянии читать церковнославянский текст, для домашнего чтения можно рекомендовать именно этот перевод.
Говоря об акафисте в славянской литургической традиции, нельзя обойти вниманием распространившийся (особенно в последнее столетие) жанр акафиста. Образцом для всех произведений этого жанра послужил именно акафист Богородице. Несомненно, подобную народную любовь к акафистам предопределили в том числе высокие достоинства образца. К сожалению, эти вторичные акафисты, написанные в подражание первоначальному, за редкими исключениями стоят намного ниже по богословскому и художественному уровню. Известный литургист священноисповедник Афанасий (Сахаров) в одном из писем сообщает:
«Признаюсь, я не охотник до акафистов, и даже больше того, я решительный противник акафистов, которых много появляется в наше время. В большинстве случаев – это сорняки, это бурьян, которым засоряется наше прекрасное, наше дивное богослужение. Эти лопухи совсем заглушают дивные по красоте, благоуханные цветы нашей древней церковной поэзии, которыми наполнены наши Октоихи, Минеи, Триоди»[4].
Он считал, что только хорошие акафисты можно читать за богослужением, но в дополнение к основным его частям, а не в замену их.
В следующих публикациях мы прокомментируем некоторые сложные для понимания места в церковнославянском тексте акафиста, основываясь на греческом оригинале.